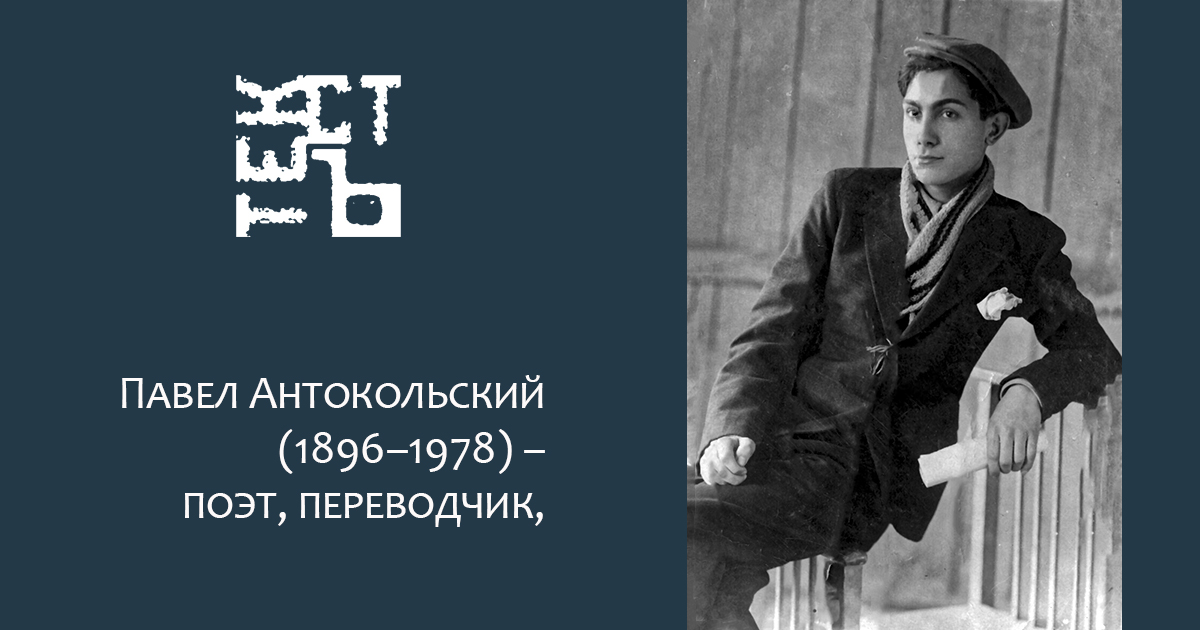* * *
Изобразить Святаго Духа
не может тот, чьё сердце сухо,
а, значит, и никто из нас.
И вот тирада непечатна,
судьба поэтому печальна,
судьба поэта… Вещий глас
дан бессловесному, случайно.
Невероятно – день пасхальный
связать с иконою наскальной,
а время наше странно мне.
Моя беда – случайность дара,
ведь ум имеет форму шара,
чьей затенённой стороне
ясна не Троица, а – пара.
* * *
Нить бытия закручена в спираль,
и много раз встречается февраль,
но только без падения престола.
И много раз уходит вниз зима,
неотвратимо тают терема
и можно ждать пусть самого простого,
но всё же – потрясения ума.
Нить бытия протянута во тьме
(но только тот, кто не в своём уме,
помыслить может о включенье тока),
а кровь – тепла, и отдаёт в виски,
когда возок на скользкие витки
влетает. Так придумано жестоко,
что ненадёжны быстрые возки:
скользят полозья поперёк зимы –
то, что, быть может, потрясёт умы,
для многих так и остаётся тайной.
Печальные читаем жития.
Устану к марту, видимо, и я –
беда зимою может быть случайной,
но не случайна форма бытия.
* * *
Пробежал музыкант, погоняя скотину смычком,
остальные стояли на всём протяженье дороги,
мне навстречу лицом и расставив по-ухарски ноги.
Я тут был новичком, я себя ощущал – старичком.
Мне хотелось, чтоб всё это стало – кино на стекле,
я б тогда объяснил то, что было тревожно и странно;
я привык слыть своим, попадая в прекрасные страны,
неуместные сны настигают – в родимой земле.
Толкования снов принимали всерьёз в старину,
а потом интерес был ослаблен учением Фрейда.
В спящей сути своей совершаем глубокие рейды,
но, проснувшись, решаем, что просто играли в войну.
Утонувшая память
Память меня приглашает в кино;
в кадре – бассейн, где не чищено дно.
Видно, что не умирает Тарковский.
Что-то случилось в начавшемся дне:
память разбухла на кафельном дне.
Ждут санитары, но я не таковский,
вовсе не нужно сочувствия – мне.
Прав звездочёт: где черно, там – дыра;
не отделит больше зла от добра
бедная память, отбитая хлоркой.
Многие книги ещё под замком,
образ Офелии плохо знаком;
мы теперь дело имеем с галёркой –
той, для которой не писан закон.
* * *
Дворовый джаз играет безобразно,
чаруя женским голосом трубы.
Танцующие встали на дыбы,
поддавшись позабытому соблазну –
он не пропал, а столько лет прошло;
всё те же дева, дискобол, весло
и те же – мы; нас меньше стало, разных
и неплохих. А наши музыканты
разъехались без спросу кто куда.
Нас всех зовут чужие города,
где мир светлей описанного Данте, –
во всяком там играет старый джаз.
А в нашем – предостерегая нас,
навязывают свой мотив куранты.
* * *
Не созрев для заботы о славе мирской,
наша юность пресытилась горькой Москвой,
наша зрелость, прошедшая нищей страною,
донесла до черты эту горечь во рту,
преумножив надежды в годах и тщету
и гордясь лишь сугубой седой стариною,
отодвинутой волей слепых в темноту.
Наша юность смягчалась любовной тоской
в ежедневных прогулках по горькой Тверской,
и размолвкам внимали пустые бульвары.
Запрещённый, не мог нам подыгрывать джаз
в комендантский, ещё не оборванный час,
и невсхожие семечки Божьего дара
вместе с юной порой пропадали для нас.
Двустороннею выбита наша медаль:
глазу – яблони цвет, обонянью – миндаль.
Слишком поздно осознаны наши потери,
чтоб других напоследок не сделать потерь.
Наша горечь пронзительней стала теперь
от созревшей тоски по утраченной вере.
А вернуться обратно – захлопнута дверь.
* * *
Печальны тромбоны, не взявшие нужного тона,
грустны тромбонисты, в руках – канцелярские скрепки,
безудержны стёкла пустого от старости дома,
чей скромный чертёж – на странице забытого тома,
и всё это – повод к распитию горьких и крепких.
Но что-то живёт в оставляемых нами жилищах:
в иных – не нашедший достойного выхода ветер
и крест на полу, нарисованный полной лунищей,
в других же – случайно опавшие в комнатах нищих
тяжёлые мысли о том, что творится на свете,
и ситцевый шелест, и время, прошедшее мимо,
былое присутствие (к слову, имеющий уши
легко постигает безумный подтекст пантомимы)
любимых. Постройки снесут, и, живущее мнимо,
пройдёт – то, к чему по привычке лежат наши души.
* * *
Кому-то дождь напомнит о тамтаме.
Неотвратимо шествие с зонтами.
Спасаться огородами, задами? – но
это город и двадцатый век…
Вчера мещане становились в позу,
устав от фильмов, презирали прозу
и не настолько верили прогнозу,
чтоб ждать ненастья, не смежая век.
А ночь едва достала до рассвета,
я даже думал, что взошла комета –
нужна же хоть какая-то примета
готовящейся встречи во дворе!
Набравши в рот, молчали старожилы,
старухи молодых не сторожили,
ум остывал, и только были живы
воспоминанья о былой поре
(как мы играли, каждый – в первой роли,
как жили мы, подумать лишь, на воле,
как дней в году пятьсот, а то и боле
подряд мы обходились без дождей).
Зонты черны, как на враге – медали;
никто не помнит, как они взлетали,
вращаясь, в небо – в брызгах и в металле –
и рассекали кромками людей.
* * *
Унесут на груди пулемётные ленты матросы,
молчаливый фотограф задаст ненароком вопросы –
только я и могу поддержать непростой разговор,
приложив своё ухо к смертельно больной амбразуре.
Всех Матросовых эхо последний аккорд образуют,
молчаливый фотограф снимает их подвиг на спор
на плацдарме у Зимнего, в белой закрученной буре.
Из метели сгущаются дамы в мехах и с мехами,
наблюдая, как крутит безмолвную фильму механик,
и отдельные кадры пытаются спрятать в альбом,
чтоб потом дорогие картинки листать на диване,
вспоминая дурное, что было не с ними, а с вами,
не пробившими стену простым человеческим лбом,
в невесёлой комедии, не получившей названья.