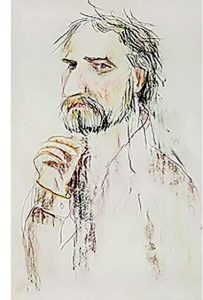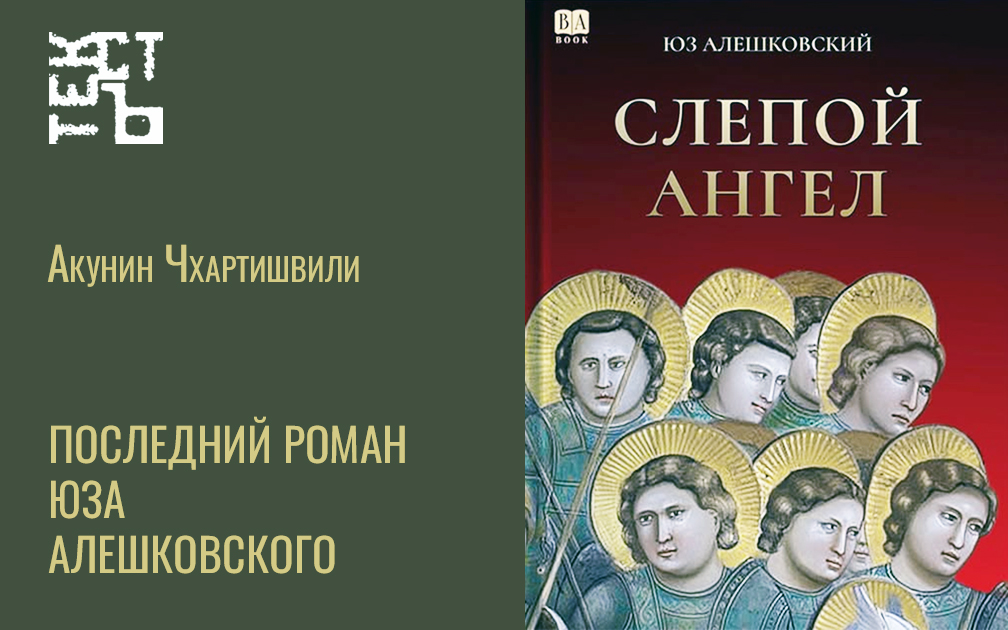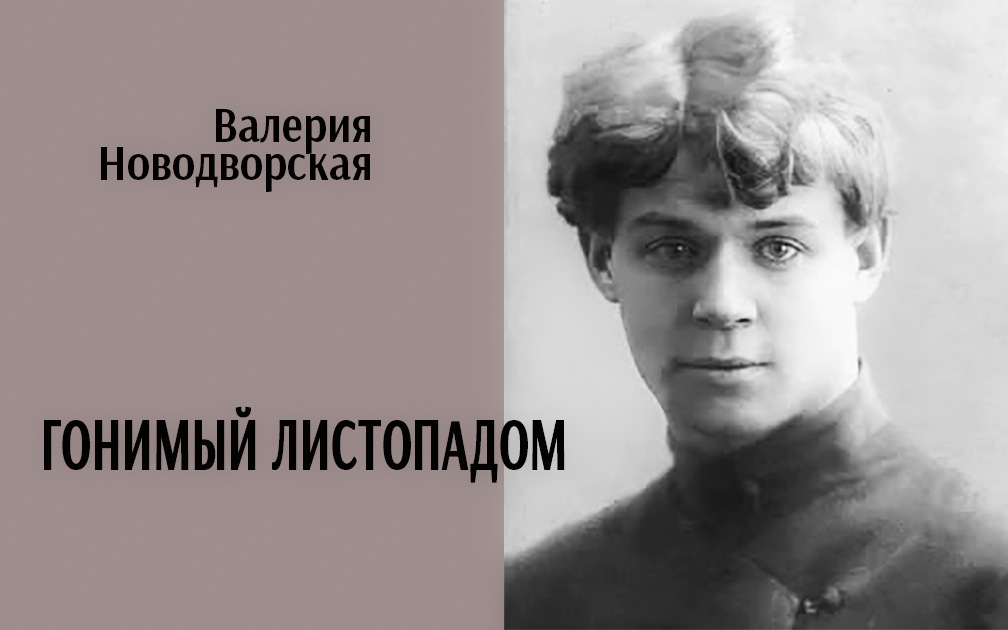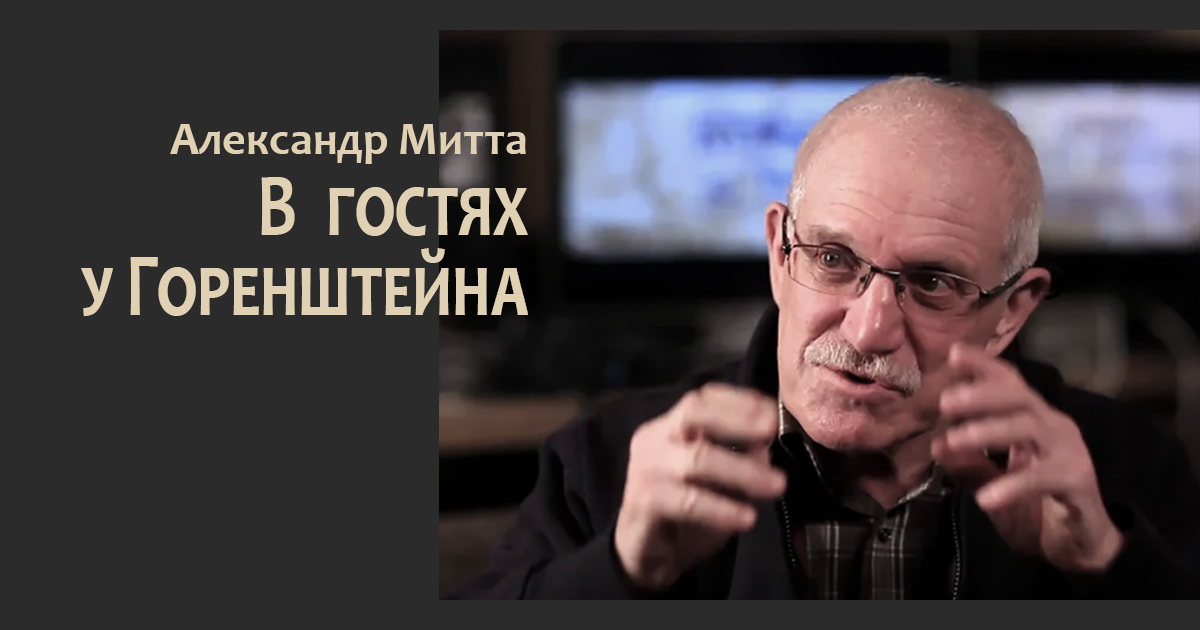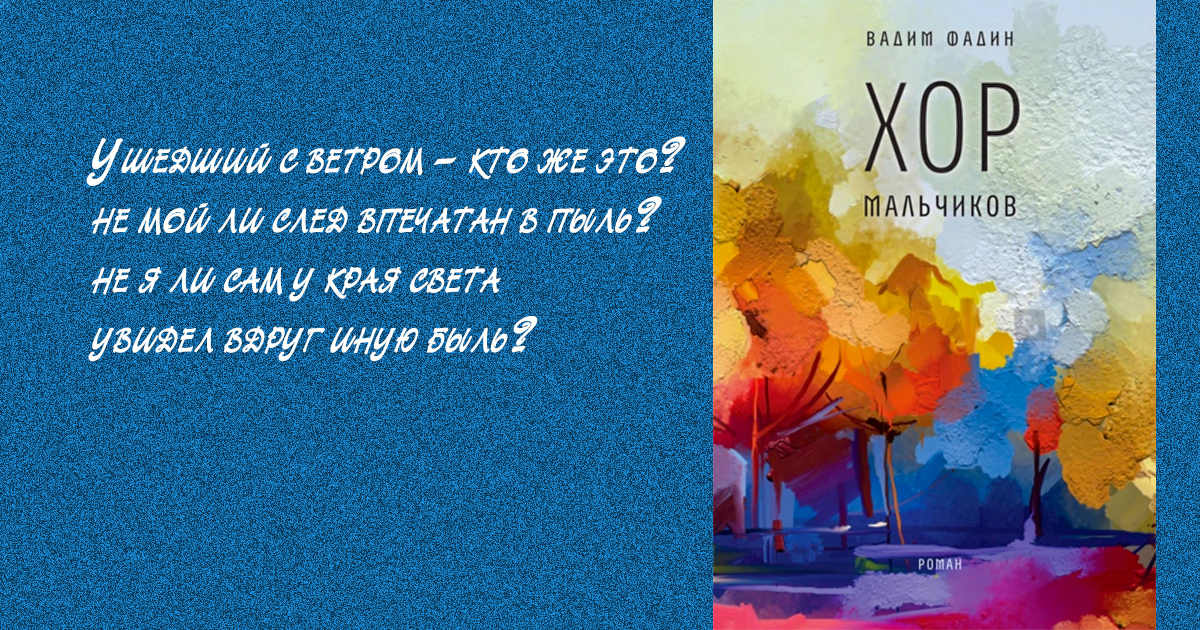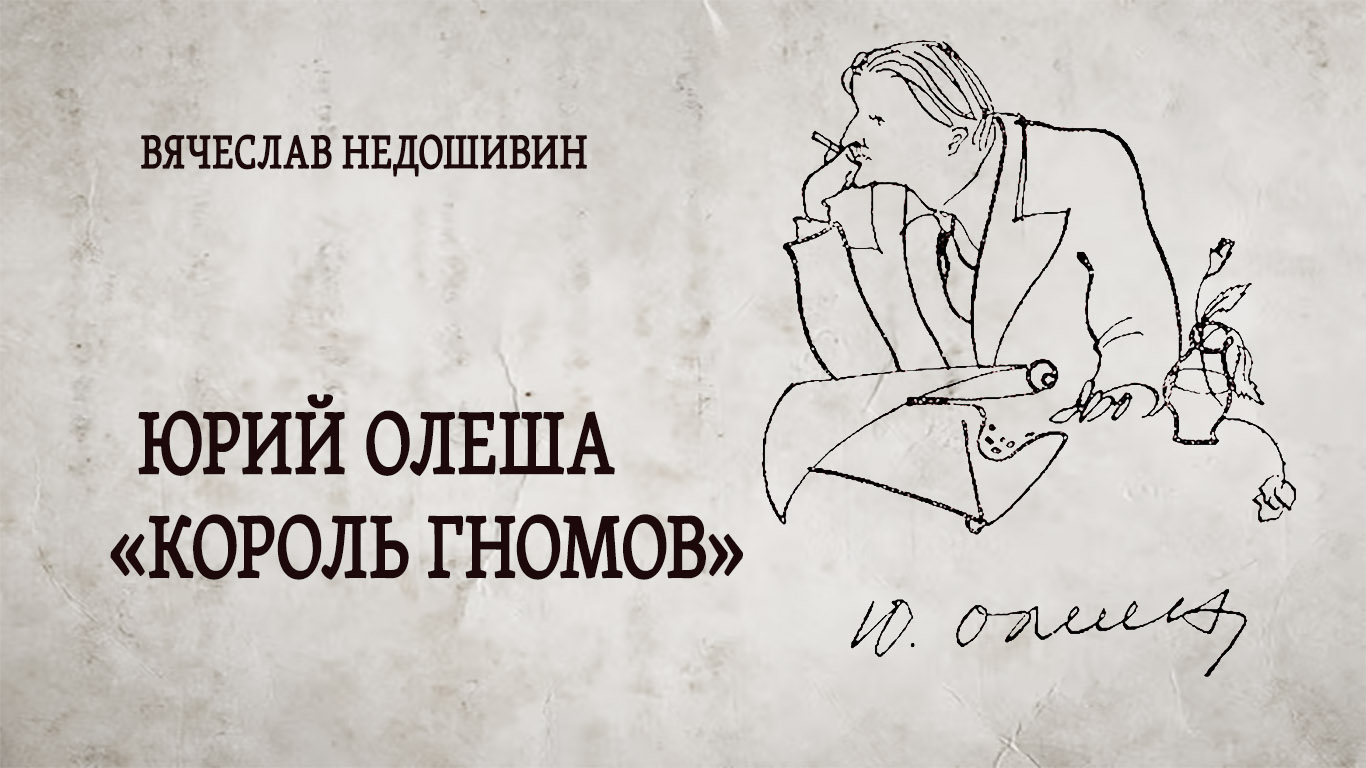РИСУЮЩИЙ ПТИЦУ
Эскиз книги
I.
«То, что я делаю в живописи, это наслоение миров. Самые интересные мои работы, я считаю, те, где мне удаётся удержаться на грани реального и нереального, иррационального и рационального, на грани, где есть еще какая-то изобразительность. В тонком, невидимом мире есть намёки, нити из него в наш мир, реальный и материально существующий. Если удаётся это ощутить, уловить, это всегда чудо.»
Николай Эстис.
«Мазок – это намерение, а так как последнее не что иное, как событие жизни художника… мы обречены постоянно возвращаться к человеческому измерению его бытия. Другого выхода нет. Любой, даже малейший штрих, отбрасывает нас от полотна, стены, доски, листа бумаги в призрачную сферу человеческого существования. Лишь вернувшись оттуда и вновь взглянув на картину, может быть, поймём, что хотел «сказать» автор.»
Хосе Ортега-и-Гассет
Технология создания книги с наступлением компьютерной эры упростилась до чрезвычайности. Если прежде «перо к руке, рука к бумаге», и некая мистическая связь, напряжение между мыслью и этими предметами рождали произведение, то сейчас функции переместились. Одна моя знакомая писательница утверждает, что как только она садится к своему компьютеру, включает его и берет в руки мышь, она подключается к невидимой трубе, через которую льётся энергетический поток из космоса, и она пишет, пишет, не отрываясь, до изнеможения, часа три – четыре, и предварительно никаких черновиков, а потом никакой правки и редактуры уже не требуется. Произведение готово, а что это будет – рассказ, повесть, эссе, поэма, – как получится. Космос диктует. Писательница издала уже книг двенадцать и в России, и в дальнем зарубежье, и нет у меня оснований ей не доверять.
Что касается книги, которая перед вами, уважаемый читатель, история её создания совсем иная и при этом имеет большую протяжённость во времени. Дело в том, что в начале своей истории книга была рассказана. 93-й год. «Знаковый», как говорится сейчас, для России. Представьте себе, что изо дня в день, в течение года и более, московский художник Николай Эстис, уже зрелый человек лет пятидесяти пяти, рассказывает о своей жизни двадцатипятилетнему Михаилу Шишкину, начинающему тогда писателю. Цель рассказчика – не дать забвению поглотить то, что прожито и пережито, зафиксировать события, чувства, вкусы, «запах» и атмосферу времени, память о котором вдруг стремительно начала уходить и погружаться в небытие. Рассказы записывались Мишей на допотопный магнитофон и кассеты образца 80-х. Молодой человек, ныне состоявшийся писатель, задавал по ходу вопросы. Разные. Естественно, как человек нового, а не «того» поколения. Что было совсем еще свежо в коллективной памяти, можно сказать, альфой и омегой еще несколько лет назад и не требовало пояснений, вдруг становилось давно прошедшим. Вопросы, порой колючие и острые, инспирировали размышления рассказчика
О феномене времени.
Родовых корнях.
О призвании, природе дара и
обстоятельствах жизни.
О художнике и власти.
Роли случая и мистерии встреч.
Творчестве, любви к женщине
и мужском эгоцентризме.
О трагических поворотах судьбы
и её счастливых мгновеньях.
Судьбах художников
и пути картин.
О художественной жизни
столицы и провинции, современниках, учителях,
собратьях по искусству, -
и все это в контексте минувшего века.
В беседах зарождалась будущая книга, и это были уже совместные усилия двоих. Предстоял следующий этап, который потребовал чисто технической рутинной, но и подвижнической работы, – превращения слов, произнесённых, в слова написанные, иначе говоря, дословной расшифровки почти полсотни кассет, что составит в будущем пару тысяч компьютерных страниц. Эту гигантскую работу проделали две московские девочки, ныне молодые дамы, и уж не знаю, кто и когда машинописные тексты внёс в компьютер. Мне неизвестны причины, по которым Михаил Шишкин, собеседник художника, ныне один из лучших представителей современных русских писателей, отказался от намерения писать на этом материале книгу. Но кассеты, и расшифровки хранились.
Фрагменты этих бесед составили Первую и Вторую части книги.
А третья часть – «Новые времена», создавалась уже здесь, в Германии, когда свершились повороты судьбы, непредвиденные, немыслимые, изменившие весь ход событий этой жизни. Книга продолжилась по принципу, заданному тогда, в 93-м, но собеседником художника стала я и получила в своё распоряжение те, прежние, расшифровки и записи.
Устная речь выдаёт человека с головой. Можно никогда не видеть его лица, не знать возраста и социального статуса, – строй его речи, голос, интонации, паузы, обо всем расскажут, ничего не утаят, где искренность, где фальшь, где поза и желание скрыть комплексы, каков психический склад личности, меланхолик или сангвиник, – очень многое заложено в речи человека, его устном рассказе. А есть еще такое понятие, как магия голоса, аура рассказа, – все это завораживает, когда слушаешь истории Николая. Он превосходный рассказчик, и когда я спросила его, почему он сам не напишет свою книгу, он сказал – у меня профессия другая, понимаете? Я понимала. Понимала также, какие потери, часто необратимые, неизбежны при расшифровке устной речи, даже самой привлекательной. И все же, мне хотелось по-возможности, не особенно греша против синтаксиса, сохранить интонацию и живость лучших, на мой взгляд, этих рассказанных историй.
Но не в нашей власти хотя бы чуть-чуть, изменить сюжет и композицию реально прожитой жизни. А вот изменить композицию повествования о ней возможно, порой необходимо, в интересах чтения. Каждый, кому довелось бы работать над этой рассказанной книгой, сделал бы такую работу по-своему. И по-своему решить вечную проблему – с чего начать? И постольку, поскольку мне дано было право распорядиться этим материалом, я подумала, а почему бы не начать книгу Николая Эстиса с фрагмента давнего диалога между ним и первым его собеседником? Это был своеобразный договор о намерениях, какой должна получиться книга? А название этому фрагменту я дала своё, как и всем последующим главам повествования.
Пролог. Метафизическое состояние.
Конец эпохи. Время – Октябрь 93-го года 20 века. Место – Россия, Москва. Гражданская война за власть у Белого Дома в центре Москвы окончена.
В мастерской художника разговаривают двое.
Художник – Николай Эстис. (Н.Э.)
Его собеседник – московский студент Михаил Шишкин (М.Ш.), которому предстояло в недалёком будущем стать знаменитым русским писателем.
Н.Э. Когда пошли воспоминания, я понимал, что таким образом оживляю и пытаюсь поднять какие-то пласты жизни. Я никогда этого не делал прежде. Может быть, только на уровне отдельных рассказов в застольях, связанных с конкретными людьми или ситуациями. А вот так, поднять свою жизнь из каких-то недр, таинственных и неведомых… Это небезопасно. Потому что, вместе с произнесённым словом, выходят призраки, я в этом уверен. А если говорить об искусстве, то я глубоко убеждён: порой, то, что ты делаешь, уже существует где-то в другом измерении.
М.Ш. Что вы имеете в виду?
Попробую привести пример. Моя дочь Лена, когда еще училась в художественном училище и ей было лет 16 или 17, приехала с подругами в Дом творчества ко мне в Челюскинскую, посмотреть мои работы. В тот же вечер они уехали, и потом мне жена рассказала, что Лена приехала домой в слезах, всю ночь не спала, и сказала: то, что папа нарисовал, я раньше видела во сне. Понимаете?
Я хочу сказать, нам не дано знать, что же такое фактическое измерение времени, что было раньше, что позже.
Или феномен, который иногда называют предчувствием. Что нас подталкивает к нему, какие силы? Вот я стал вдруг звонить в Винницу своей сестре и говорить, спроси сейчас же у отца, речь шла об одной ситуации времён войны. Сестра мне сказала, он спит. Позвонил еще раз, она говорит, что он гуляет. Звоню в третий раз, она говорит, приезжай поскорей, потому что он тебя уже не узнает. Он очень болен.
Она хотела до поры скрыть его состояние от меня, но меня что-то томило, вовсе не связанное с его здоровьем. А на самом деле, что это, как не предчувствие?
Я помчался на Киевский вокзал, чтобы взять билет и тут же уехать. Я езжу на Украину, уже чуть ли не 40 лет. Я привык ко всяким вокзалам. Но Киевский в дни этой нашей российской смуты что-то особенное. Толпы народу, цыгане, беженцы из Молдавии, люди торгующие, люди, выезжающие на заработки, всё разорено, и Закарпатье сдвинулось с места. И вся эта великая рать, воинство человеческое, на Киевском. Пройти невозможно. Билеты достать невозможно.
Уехать я не смог, простоял в нескольких очередях, и, в конце концов, пошёл к окошку администратора. Пробился к окошку, сказал, что у меня в тяжёлом состоянии отец, надо уехать. Слышу в ответ: где телеграмма? Я говорю, какая телеграмма? Ну, заверенная телеграмма, о смерти? Я говорю, ну он же не умер еще, я хочу с ним попрощаться. Ну, говорит, не умер, тогда чего ты вообще пришёл сюда? Когда умрёт, тогда и приходи с заверенной телеграммой. Понимаете? Я впал в такое состояние, что с трудом доехал до дома. В конце концов, был заказан билет по телефону, я получил его через шесть дней и уехал.
Отец меня не узнал. Внешне он не изменился. Лицо просветлённое, довольное. И я понял, что для него сейчас совершенно неважно, в каком он находится времени, в каких мирах. Его душа очистилась настолько, что в его представлении мёртвые стали живыми, живых он не всех узнает. Все смешалось, перепуталось, но он этого не ощущает, он в состоянии определённой гармонии, и это совсем не то, что называется бредом или психозом. Это нечто совершенно иное. Я впервые с этим столкнулся. Внутри определённых блоков памяти все логично, он все прекрасно помнит. Просто блоки эти смещены. Что когда было, кто жив, а кто не жив, он видит рядом с вами тех, кого давно уже нет на свете. Но это… Это для нас алогично. А для него норма. Моя мать для него жива. И он беспокоится, кто заботится о ней. Я говорю, папа, давай поужинаем, мама приготовила. Он говорит, прекрасно, может, нам и выпить немножко? Я говорю, конечно. Он такой светящийся, воплощение невероятной доброты. Возникают из небытия люди из каких-то времён, они приходят к нему, окружают его, он с ними общается. И я не могу это назвать безумием. Я думаю, может быть, человечество лишилось когда-то этого состояния, может быть, мы еще к нему идём, исчезают грани, и мы вступаем в иные миры?
Для того, что вы рассказываете, существуют определённые термины.
Можно говорить об этом и какими-то терминами. Но терминология как раз очень все портит и уводит от сути. Я думаю, что нам не надо сейчас обращать внимание на терминологию. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду.
Так вот, я увидел перед собой человека, который, не помня, кто я, берет обеими руками мою руку, гладит её и говорит: ну, как вы сейчас поживаете, чем вы занимаетесь? Причём, он продолжает говорить на тех языках, которые он знал, русском, украинском либо идише.
А как вы к нему обращались? Папа?
Мы решили, что он меня все-таки рано или поздно узнает, и сестра мне говорит, давай не будем называть тебя по имени, предоставим ему эту возможность. Отец спрашивает меня: а кто вы? – Отвечаю: – Я художник. – Художник? Он так с придыханием это произнёс. – Да что вы говорите! – Ах, вы художник? И так, покачивая головой, обращаясь как бы внутрь себя, будто в этом есть какая-то тайна, продолжает. – Вы художник? Ой, как интересно! А вы знаете, я вам должен сказать, – так держа и сжимая мои руки, глядя в глаза, – вы знаете, ведь у меня в Москве мой батька – художник. У него своя мастерская. К нему приезжают за его картинами со всего мира. Я вас должен обязательно познакомить.
Вот тут уже я не мог контролировать себя, плачу, хотя я вообще в жизни редко плакал… И я тогда подумал, что уже в течение многих лет, может быть, двух десятилетий, когда отец и мать постарели, я ведь и воспринимал их как своих детей. По внутреннему состоянию я это ощущал. Да.
Ну хоть раз он узнал вас?
Нет-нет. Ни разу. Я его побрил, искупал в ванной, он не мог уже мыться самостоятельно. А был физически очень сильный и крепкий человек.
Я не помню, говорил ли я вам, он приезжал ко мне в гости на открытие моих выставок, вернисажей. Он очень это любил. У меня есть фотографии, на всех вернисажах я его ставил рядом, – он при галстуке, в пиджаке, с этими его планками, медалями, седая шевелюра, прямая спина. Он был мужчина большой, красивый, вальяжный. Это я на этих вернисажах выглядел полным замухрышкой. Зато отец занимал центральное место в кадре, а потом за столом на банкете, он это тоже любил.
И вот он впервые мылся с посторонней помощью. Он отозвал все-таки в сторонку мою сестру и спросил, слушай, кто этот интеллигентный человек, как-то неудобно, он так за мной ухаживает, он так меня сейчас помыл. Мы были с ним заядлыми банщиками, можно сказать профессионалами, и я, насколько возможно в ванной, чуть-чуть помял его, потёр, ему было так приятно, он расслабился. И тогда сестра, Майя, не выдержала, зарыдала, стала гладить меня и говорить, папа, ну это же Никочка, это твой сынок, это Ника, ну посмотри внимательно, потрогай его бороду, ну это же Никочка, он приехал к тебе.
Он говорит, – Никочка, да что ты говоришь? И все опять проваливалось. Он говорил, обращаясь ко мне: – Вы такой добрый человек, я вас очень прошу, уже темнеет, у вас, наверное, семья, вам пора домой, мне очень приятно, что вы здесь.
Я с 16-17 лет не жил в семье, хотя ездил довольно часто к ним, но все-таки это были эпизодические встречи. А с Майей у него полный контакт. Сестра кормит, поит, даёт лекарства, здесь живёт. И он живёт жизнью этой семьи. А меня нет, я отчуждён.
Он радио слушает, телевизор смотрит?
Да, и радио, и телевизор, но насколько он это воспринимает, непонятно. Там очень тесно, две комнаты, в крошечной он только спит, в другой вся большая семья, он сидит среди домочадцев, как бы принимает участие в общей жизни, и непонятно, до какой степени. Но мне кажется, что он абсолютно все воспринимает, во всяком случае, когда там возникают довольно часто какие-то ссоры, конфликты, он на это очень реагирует, я вижу, что он так напрягается, пугается, ему надо куда-то идти, звать кого-то, какая-то тревога бесконечная. Заинтересованность его в том, что происходит вокруг, делает его абсолютно адекватным в том измерении, где он находится.
Он открывает дверь, что уже открыта к стене, и говорит: Лёня, давай проходи, посидим, – это он зовёт своего друга, или своего старшего брата Юру…
Чаще всего он пребывал в состоянии, можно сказать, блаженном, очень добром. Словно душа обнажилась, ко всем обращена, всех любит, понимаете? В этом какая-то беззащитность, а может быть, знание чего-то того, что открылось ему и неведомо нам.
Мне сестра рассказала, как наступило это состояние. Он утром проснулся – она говорит, папа, давай, скорее, чисти зубы, будем завтракать. Он ей отвечает, а разве мёртвые едят? И этот вопрос задавал несколько раз, а разве мёртвые едят? Может, он где-то побывал уже, и для него поэтому смешались мёртвые с живыми… Не знаю, как объясняется это на уровне медицины, я беру аспект чисто человеческий…
Я нарушил ход последовательности воспоминаний, счёл уместным прервать хронологию не только потому, что совсем недавно пережил очень сильное потрясение состоянием отца, но и потому еще, что убеждён, ничто не бывает случайным или несвоевременным. Может быть, своими воспоминаниями и своим поведением я спровоцировал это его состояние? Ну, опосредованно, косвенно? И чувство вины оттого, что я не могу помочь и в плане бытовом, все тяготы лежат на семье моей сестры, и я не могу остаться с ним до последних его дней. Все взаимосвязано.
Мой сын Олег – художник и взрослый человек. Наступил какой-то период, когда он уже больше, чем мой сын, даже немножко мой отец, в том плане, что в чём-то он мудрее, умнее, в профессии художника набрал стремительно и пошёл гораздо дальше, чем я. Он художник очень тонкий, безусловно. Еще мальчиком, ребёнком, он задавал такие вопросы, что мои друзья – художники замолкали и задумывались, настолько необычен был для них, крутых профессионалов, сам взгляд на проблему. Его суждения обнаруживали совершенно необычное понимание вещей. И это свойство его таланта сохраняется по сей день, в этом смысле он старше меня.
Как Олег относится к тому, что вы делаете? Он интересуется вашим творчеством?
Он смотрит все, что я делаю, и я ему очень благодарен, что сейчас он не задаёт никаких вопросов, и я его ни о чём не спрашиваю. Хотя мне очень хотелось бы знать, что он думает о моих работах. Он никогда не говорит, это тебе удалось, это не удалось, или ты делаешь не то, точно так же, как и я ему.
Он никогда не ведёт разговоров о том, о чём обычно говорим мы, старшие художники. Ему как бы уже слова не нужны. Он не просто мудрее, это уже что-то другое. И в этом смысле, конечно, он мой отец. Я подумал еще о том, что все его искусство, все его персонажи, в основном, из еврейского местечка и вокруг него. Многие говорят, – Шагаловское. Но язык абсолютно свой.
Пару лет назад номер журнала «Декоративное искусство» был целиком посвящён еврейскому искусству. Восемь московских художников давали журналу интервью. Олег и я в их числе. Олег, казалось бы, типично московский юноша, русский по матери и по воспитанию, говорил невероятные вещи. Он говорил о еврействе, о Хмельнике, куда ездил только на каникулы, говорил то, что должен был сказать я, потому что я вырос в этом местечке. Но он так его прочувствовал, так оно в него вошло вместе с рассказами дедушки и бабушки. Я ни о чём таком в нём не подозревал, он сказал, что на его формирование как художника это еврейское местечко повлияло больше, чем Марк Шагал. Там, в этом интервью, он говорит, что в то время, как его московские друзья и двоюродные братья изучали языки, оттачивали свой ум в интеллектуальных спорах, он ездил в Хмельник, потому что его постоянно тянуло туда. Олег стал таким художником, которым должен был, очевидно, стать я, но не стал. Так вот, это все к вопросу о том, что такое отец, что такое сын, и как на определённом жизненном изломе, повороте, это сплелось, трансформировалось, и еще неизвестно, чем это всё завершится.
Я не могу смотреть на отца в его состоянии глазами женщины-психиатра, которую пригласили. Я разговаривал с ней по телефону, и она мне выдала такой жёсткий диагноз, который я даже не запомнил, обо всех последствиях, и слушать мне было страшно и неприятно. Я ужаснулся её словам, потому что видел перед собой нечто совершенно иное, не жестокий приговор на уровне медицины и физиологии. Все-таки это сфера души, и пока он в состоянии идеальной гармонии, вот о чём я хотел вам сказать. И потрясение, пережитое при встрече с отцом, имеет отношение к тому, что я стремлюсь выразить в своих работах.
Мы начали разговор с того, какой должна быть эта книга.
Я понял, какой должна быть книга, независимо от того, что это будет – рассказ воспоминание, повесть.
Все вдруг соединилось в жизни, в состоянии моего отца. Все соединилось. И я подумал, что это не случайно произошло в разгар наших с вами бесед, как такой знак. Больше, чем знак.
Но то, о чем, собственно, я хочу писать, другое. Это проблема художника в России. Была ли на вас жестокая критика? Следы этой критики я нигде не нашел, и мне неясно, почему, собственно, вас тогда, в советское время, никуда не пускали, на выставки не брали, и так далее. Но вы состоялись как художник, не отчаялись, не спились, не потеряли своего дара. Значит, все-таки были в России люди, которые ценили художников и не давали им погибнуть?
Да, безусловно, женщины, в основном.
Из фактов вашей жизни следует, что и выставки были, и вас ценили, и, собственно, в чем тогда проблема вашей жизни, как художника?
Да, действительно, чем Эстис недоволен? Особенно сейчас это непонятно, когда общество напрочь забыло, что же происходило с личностью?
Если, несмотря на унижения, у тебя сохранилось достоинство, если тебя не раздавили, ты не спился, не покончил с собой…конечно, оставалось еще одно средство – уход в себя, и никаких вопросов.
Где критика на меня? Интересный вопрос. Этого тоже надо было удостоиться, надо было находиться «в орбите». А я был на уровне, который вообще не был заметен, какая может быть, критика? Устная критика, да, была на моих выставках. Она носила форму обсуждения при открытии выставки. Обязательное обсуждение, особенно это касалось молодых художников. Любой мог выступить и говорить о вас, естественно, все, что он хочет. И были такие дежурные идеологи, и среди художников, и среди искусствоведов, которые выступали. Но тебя еще до открытия терзают, приезжают всяческие комиссии, вот открыли, вот закрыли. Управление культуры не разрешает, идеологический отдел горкома партии запретил. И я устроителей моей выставки, как говорят, подставил. Они мне выставку делают, а на них там где-то орут в кабинетах. Кроме того, я очень не любил и не хотел скандальной популярности, через которую, особенно в 60-е годы очень активно входили в искусство и неплохо в нем устраивались. Именно через скандалы. Мне это очень неприятно было всегда.
Критика была, но в неуважительной и чаще всего устной форме. А до письменной, до печатных страниц, ну что вы, это надо было заслужить.
Среди художников и сейчас бытует мнение, даже не мнение, а убеждение: какая разница, старик, тебя ругают или хвалят, главное, что тебя назвали.
Началась новая эпоха, для художника. Время работает на вас. Вы не можете этого не ощущать, не зависеть от этого, в конце концов, не участвовать в этом.
Вот все, что сейчас происходит, вне поля зрения и вне интересов моей жизни. Вся эта политика, без которой никто не встаёт, не ложится, телевизор, газеты, выборы, референдумы… Меня это, как бы вам сказать, не касается. Это не значит, что мне совсем безразлично, будет Жириновский или кто-то другой у власти. В принципе, лично моя жизнь на 99 процентов от этого не зависит. Уже так много поменялось правителей, и если бы я ставил свою жизнь и судьбу художника в зависимость от того, кто у власти, – Горбачев или Ельцин, – меня давно не было бы как художника, понимаете? Вы спросили о политике, как я к ней отношусь, как участвую.
Здесь, в мастерской, мои баррикады и мое поле сражения, мой Белый дом, моя линия фронта. Здесь, на подиуме, я раскладываю холст и делаю, что хочу. Это моя политика, мое участие, мои убеждения. Здесь тоже идёт своя борьба, но в рамках моей профессии.