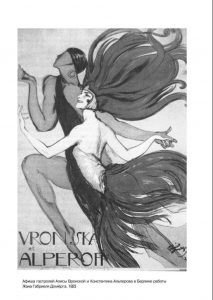Берлинская нота, петербургский текст

Картина русской художницы Маревны ( Воробьева Мария Брониславовна), 1962 год. «Посвящается друзьям с Монпарнаса. На картине изображены слева направо: Маревна с дочерью Марикой, Диего Ривера, Илья Эренбург, Хаим Сутин, Амедео Модильяни, Жанна Эбютерн, Макс Жакоб, Леопольд Збровский, Моисей Кислинг. /vita_colorata/
Великий исход из России после 1917 года сопровождался возобновлением и созданием многих тысяч объединений военных и общественных деятелей, ученых, писателей, драматургов, издателей, журналистов, актеров, художников. В этом гигантском перечне насчитывается несколько сот чисто литературных, к ним прибавились литературно-политические, литературно-музыкально-артистические, литературно-художественные.
Размышляя о таком, выражаясь современным научным языком, синергетическом явлении, Владислав Ходасевич пришел к такому выводу: «Если присмотреться, то окажется, что история русской литературы есть история объединений, испокон веков обвинявшихся во всех смертных грехах кружковщины». И далее поясняет: «Группы могут быть “правыми” или “неправыми”, добрыми или злыми, но самое возникновение их всегда жизненно, ибо оно – следствие доброй или злой энергии, скопившейся в глубине исторического или литературного процесса. Идёт ли речь о новых воззрениях или всего лишь о новых литературных формах, и то и другое корнями уходит очень глубоко: в возникновение новых идей. Там, где лишь намечается новая литературная группа, почти всегда можно безошибочно угадать существование подземного идейного родника. По мере оформления группы, в смысле её состава и самоопределения, – идейный родник прорывается наружу. Новая группа вступает в борьбу со своими предшественниками. Или на неё нападают, или – чаще – она нападает первой. И эта борьба благая, законная борьба за свою идею, за то, чем группа вызвана к существованию. Только наличность идеи ведёт к борьбе, ибо только идеи обладают способностью глубоко соединять и глубоко разъединять. Каждая идея приносит меч».
В первой половине 1920-х годов столицей русской эмиграции был Берлин. В развитии литературного процесса русского Берлина значимую роль сыграли писательские объединения и клубы. Своеобразной кульминацией общественно-литературной жизни русского Берлина стало создание в 1921 году берлинского Дома Искусств, где происходил наиболее интенсивный обмен культурной информацией, рецензировались новые произведения, читались лекции по проблемам современного искусства, велась ожесточённая идеологическая и эстетическая полемика – подобно тому, как это происходило в петербургском Доме Искусств. Существовало 86 издательств и книжных магазинов, имевших собственное производство. Особенно успешным было издательство с характерным названием «Петрополис» (эта крупнейшая фирма была закрыта во время войны, её архивы изъяты гестапо и до сих пор не найдены).
В дальнейшем роль эмигрантской столицы была заимствована Парижем. Но в обоих случаях степень такой «столичности» во многом определялась особой петербургской степенью присутствия образа России в сознании и творчестве. И эта степень сохраняла некую целостность среди людей разных, порой непримиримых, убеждений.
Подводя культурные итоги русской эмиграции за первые три десятилетия (а в определённой мере и итоги собственной жизни), поэт Николай Оцуп писал:
Конкорд и Елисейские поля,
А в памяти Садовая и Невский,
Над Блоком петербургская земля.
Над всеми странами Толстой и Достоевский…
По мнению О. Р. Демидовой, эмиграция для творческой личности – взаимоналожение двух культур: страны исхода и страны проживания, что, в свою очередь, «имеет результатом сосуществование в сознании эмигранта двух типов значимых локусов: связанных с бытием до - и собственно эмигрантским». Локальный текст культуры с точки зрения современных технологий наследования имеет тут медиализирующее и синтезирующее значение.
Образ Петербурга, живший в эмигрантском сознании, эксплицировался на разных уровнях. Во-первых, на уровне самоидентификации и самоназвания: подчеркнутая ориентация на дореволюционное культурное наследие – петербургскую традицию русской литературы – обусловливала эмигрантское восприятие прежних явлений общекультурного и литературного быта как архетипических, что постулировалось в программных заявлениях эмигрантских объединений и изданий, а порой – и в их названиях. Парижские «Зелёная лампа» и «Арзамас», варшавский «Домик в Коломне», харбинский литературный кружок «Акмэ», константинопольский «Цареградский цех поэтов», берлинский, парижский, таллинский и юрьевский «Цехи поэтов» ассоциировались с пушкинским Петербургом, с русским Серебряным веком и с гумилёвским Цехом.
В рамках данной модели, к примеру, родился русский Монпарнас меж военных десятилетий – как синтез двух мифопоэтических пространств: Петербурга и Парижа-Монпарнаса с присущим каждому из них смысловым комплексом. Монпарнасские поэты «с жадностью внимали каждому слову «петербургских» поэтов: они застали ещё то время, когда возвращались на землю последние из «отважных аргонавтов», слышали их рассказы. <…> Когда Георгий Иванов в котелке и в английском пальто входил в «Селект», с ним входила, казалось, вся слава блоковского Петербурга: он вынес её за границу, как когда-то Эней вынес из горящей Трои своего отца. Нередко монпарнасцы выстраивали собственный образ «под петербургских поэтов». К примеру, Алла Головина выстраивала себя «немного под Ахматову», копируя один из наиболее известных и запомнившихся внешних признаков; Николай Оцуп избрал роль наставника молодёжи – продолжателя дела Гумилёва и т.п.
В свою очередь, Монпарнас и сам превращался в мифопоэтический локус в непосредственном восприятии эмигрантской «провинции». В созданных по прошествии длительного времени воспоминаниях парижан. «Монпарнас нам мнился мифологическим священным «пупом земли», где сходились ад, небо и земля», – писал Варшавский. Монпарнас как феномен стал духовным домом молодых эмигрантских писателей, собиравших пространство «через смыслы», а себя – через насыщенное смыслами пространство. Культура русского Монпарнаса представляла собой результат взаимоналожения двух культур: русской, преимущественно петербургского периода, и французской, а формировалась в процессе свободного творческого взаимодействия, не ограниченного возрастом, национальной и конфессиональной принадлежностью или эстетическими установками. Роль мэтра на Монпарнасе трансформировалась в роль своеобразного «гения места». Если до революции окно в мир нового французского искусства прорубал М. Волошин, то после революции эту роль «стихийно» взял на себя Г. Адамович, бывший «гумилёвский мальчик». В роли старшего собеседника Адамовичу удалось сделать то, что не удалось Ходасевичу, Бёму и другим претендентам на роль «мэтров». К последним из указанных литераторов Монпарнас прислушивался, за Адамовичем он шёл. Не случайно «парижская нота», отцом которой считается Адамович, впоследствии определялась современниками как та «лирическая атмосфера», «литературная атмосфера», которую Адамович сумел создать для зарубежной поэзии.
В Берлине способом присутствия «петербургского текста» в творчестве русских эмигрантов стал жанр «берлинского очерка». «В «берлинском очерке» Берлин поразительно похож на Петербург, – отмечает Е. Пономарёв в статье «”Берлинский очерк” 1920-х годов как вариант петербургского текста». Притом, что Берлин совсем отсутствует в списке привычных проекций петербургского мифа. Петербург называли русским Амстердамом и северной Венецией, сравнивали с Римом, Лондоном, Парижем – и очень редко – с Берлином. Тиме из всей традиции XIX века находит прямое сравнение двух столиц только у Ф. Достоевского, в «Зимних заметках о летних впечатлениях».
Перенеся в Берлин посредством литературных салонов и эмигрантских литературных изданий фундамент петербургского текста, «берлинский очерк» по-своему пытается позаимствовать и его энергетику. Авторы находят в немецкой столице две противоположности, противопоставляют положительный Берлин Берлину отрицательному. В скором времени (начиная со стихотворения Маяковского «Два Берлина»,1924) советская традиция осмыслит это противопоставление в строго социальном, классовом плане: Норден – Берлин хороший, в нем зарождается Германия будущего; Вестен – Берлин плохой. Отсюда, в конечном счёте, прорастёт и советская формула «город контрастов». Но поначалу контрастность побеждённого Берлина напрямую восходит к двуполюсности петербургского мифа.
«Берлинский очерк» пытается создать сильные антитезы, используя актуальный материал: сформулированное О. Шпенглером противопоставление культуры и цивилизации, нищета немцев и роскошества иностранцев, достаток прежней и распад нынешней жизни, довоенная уверенность в завтрашнем дне и неопределённость положения послевоенной Германии и т. д.
Все ужасы Петербурга петербургский текст обычно снимает так же, как и нагнетал, – при помощи фантасмагоричности изображаемого. Фантасмагория делает ужасы нереальными, умозрительными, литературно-театральными. Точно так же поступает «берлинский очерк» и с житейскими ужасами послевоенного Берлина: в текст проникают мотивы маски, маскарада, переодевания, что, по наблюдению, Е. Пономарёва, шло от Гоголя-петербуржца и реактуализовалось символизмом. На улицах Берлина, как раньше на улицах Петербурга, появляются воплощения «голых идей»
Лишённый лица город порождает причудливые маски-мифы. Андрей Белый, давно убеждённый в том, что Европу захватывает символический «негр», воочию видит на улицах египетские божества – «пёсьеголового человека». Традиционный гоголевский мотив «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» реализуется в Берлине при помощи «эрзац-темы»: «В Берлине всё – “эрзац”. Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек – одни манишки. Когда берёшь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь <…> Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку почтенного маргарина». Эрзацем оказывается и берлинская архитектура c одинаковыми, как чемоданы, домами и памятниками как сервизами. То есть Берлин подаётся, как испорченный Петербург – похожий, но не такой, ухудшенный. Можно сказать, что «берлинский текст» выстраивает отталкивание от Петербурга – точно так же, как петербургский текст был в определённом смысле антимоделью Москвы. Немецкая столица предстаёт в качестве двойника Петербурга, осмысленного в традиции петербургского двойничества Достоевского – Блока. Несмотря на нагнетаемые сходства, Берлин вызывает скорее негативные чувства именно тем, что он, напоминая, всё же не похож на родной и привычный Петербург. Это чужое пространство, не поддающееся переписыванию на русский лад.
Суммировав традиционные мотивы петербургского текста, «берлинский очерк» ищет стержневой образ – нового Медного всадника, застывшего над бездной, и опознаёт его в разных скульптурных изображениях. Берлин – город сотен Медных всадников. Уникальная петербургская скульптура привычным приёмом «берлинского очерка» многократно тиражируется. Медный всадник калейдоскопически распадается на тысячи валькирий и сотни неизвестных всадников, ещё раз доказывая, что Берлин – не Петербург, что неисчерпаемый петербургский миф рассыпался на множество осколков, как зеркало Снежной королевы.
Тиражирование тем и образов – внутренняя разрушительная сила «берлинского очерка». Многократно увеличивая количество Раскольниковых и Сонь, Чартковых и Поприщиных, очерк разрастается количественно, стремится поразить читателя грандиозностью, предсказанной в петербургском тексте мировой катастрофы. Но переходя на символы, вся сила которых – в единственности, «берлинский очерк» разрушает сам себя. Сотни Медных всадников означают распадение Петербурга на разные похожие городишки (у Эренбурга за спиной прежней русской столицы выстраивается шеренга мёртвых городов, в которой первыми идут Равенна и Брюгге, а затем появляются Берлин и Париж). Потеряв уникальность, идея Петербурга растворяется в европейском воздухе, а автор «берлинского очерка» судорожно ищет какую-нибудь новую структурирующую идею. И. Реброва на основании изучения эмигрантской прессы делает закономерный вывод: «Петербург может быть рассмотрен как эмигрантский когнитивно- оценочный концепт, включающий в себя ценностные, мировоззренческие, аксиологические ориентиры представителей эмиграции первой волны, которые вне России продолжали поддерживать дореволюционный “очаг великой русской культуры”».
Как следует из статьи Романа Тименчика и Владимира Хазана «На земле была одна столица», предваряющей сборник «Петербург в поэзии русской эмиграции», сам по себе перечислительный ряд петербургской топографии, произнесение памятных названий городских локусов создаёт эффект пристального вглядывания в незабываемый образ, любование им и легко превращается в своего рода приём. Не всякое описание Петербурга означает автоматическое подключение к Петербургскому тексту, в то же время оказалось возможным (трагически возможным) родиться где-то за океаном, ни разу не увидеть Петербурга и в то же время, живя в определённом кругу воспоминаний и идей, быть представителем именно этого текста.
То же с Крымом и Крымским текстом, создававшимся как южный полюс Петербургского текста (авторы совпадают). Пушкин в Гурзуфе дописывал «Кавказского пленника» (а «Бахчисарайский фонтан» был написан уже в Молдавии и Одессе). Через несколько десятилетий неподалёку от Гурзуфа, в имении графини Паниной в Гаспре, Лев Толстой написал повесть «Хаджи-Мурат» (хотя ранее очерковые «Севастопольские рассказы» писались им в ходе обороны Севастополя «с натуры»).
Крым белогвардейский – место дозревания поэтической музы Владимира Набокова накануне эмиграции. Погружённый в ощущения традиционной юношеской любви, он воспринимал Крым уже как совершенно чуждый край с «потёмкинской флорой», «привозными кипарисами» и заимствованной у Пушкина «Тамарой». Как вспоминал он в «Других берегах», здесь впервые пришлось ощутить «горечь и вдохновение изгнания». В 1921 году в Лондоне он написал небольшую поэму «Крым», необычайно компактный путеводитель-воспоминание.
И посетил я по дороге
чертог увядший. Лунный луч
белел на каменном пороге.
В сенях воздушных капал ключ
очарованья, ключ печали,
и сказки вечные журчали
в ночной прозрачной тишине,
и звёзды сыпались над садом.
Вдруг Пушкин встал со мною рядом
и ясно улыбнулся мне…
Современные крымские филологи усматривают в этой поэме постоянные пересечения не только пути лирического героя Набокова и некогда реально бывавшего здесь Пушкина, но и то, что оба лирических героя – пушкинский и набоковский – как бы встречаются в пределах «Бахчисарайского дворца». Если у Пушкина прикосновение к каждой вещи сразу же влечёт краткую их историю: «Я видел ветхие решётки…», то Набоков избегает прикосновений, за предметами его мира не стоит история, позволяющая понять, что и почему заметил и запомнил, и что и почему пропустил мимо.
По мнению О. К. Беспаловой, у Набокова петербургский и крымский мифы как генераторы соответствующих текстов перевернулись. «Именно крымский миф, а не наоборот… вызвал появление петербургского мифа в дальнейшем творчестве Набокова. В стихах «докримського» периода (юношеский сборник «Стихи», 1916), написанных непосредственно в Петербурге и его окрестностях, речь не идёт о мифопоэтичном пространстве Северной Пальмиры, поэтическое внимание Набокова занято совсем иными «материями»: первой любовью, первыми разлуками. Петербург служит лишь немым свидетелем бурного романа лирического героя, нейтральным фоном, на котором ещё ярче выступает образ героини – адресата стихов Набокова («Столица», «У дворцов Невы я брожу, не рад…»). Оказавшись в «чужом» пространстве Крыма, Набоков кардинально меняет свой взгляд на «малую родину». Он погружается в «пушкинские ориенталии», и, начиная создавать первые слои «кримського макромифа», оглядывается назад с тоской об утраченном. Окончательно утратив родину, Набоков начинает уже сознательно выстраивать свой петербургский миф, недаром первые его признаки выявляются лишь в стихах, написанных за границей («Петербург» – 1921, «Петербург» – 1922, «Петербург» – 1923, «Санкт-Петербург» – 1924). Рожденная в Крыму ностальгия Набокова по России симметрична крымской ностальгии Пушкина – сначала из Новороссии, а потом из России как таковой, с сожалениями насчёт «неподготовленности» своего восприятия Крыма наяву.
Другим ресурсом для перехода от конкретной действительности к духовным ценностям Владимира Набокова стал Берлинский текст набоковского метаромана. Берлин как текст у В. В. Набокова динамичен и изменяется от романа к роману, находясь в постоянной оппозиции с образом усадьбы. Вектор неприятия направлен от романа «Машенька» к «Дару». Берлин как текст В. В. Набокова – временная реальность, которую пытается игнорировать герой-эмигрант. Но постепенно оценки Берлина становятся более корректными, так как с течением времени происходит освоение пространства столицы Германии. В берлинский период происходит характерный для дальнейшего творчества Набокова процесс взаимообогащение стиха и прозы. Поэзия анализируется в сопоставлении с прозой как источник более откровенно выраженных мотивов потусторонности и ностальгии.
Разделяя творчество В. Набокова на периоды, Д. А. Морев с «Машенькой» связывает генезис метаромана, характеризуемый наличием тех основных образов, на которых будет выстроен весь метароман – образы героя, усадьбы, Берлина. С «Защитой Лужина» связывается центр метароманного развития, а с романом «Дар» ассоциируется финал метаромана. Интересны сопоставления берлинских произведений Э.М. Ремарка и В. Набокова. Если взгляд В.В. Набокова – это взгляд на улицу из окна, то Э. М. Ремарк смотрит на улицу, находясь непосредственно на ней, что обусловлено немецкими корнями последнего, который видит город глазами истинного берлинца, тогда как В. В. Набоков – только постояльца. Разница в таком взоре замечается сильнее, когда глаз эмигранта ловит мельчайшие детали, тогда как немцу достаточно общих картин. Впрочем, у Ремарка есть истории, где герой оказывается вполне в положении набоковского персонажа – «Триумфальная арка» и «Тени в раю». Когда герои становятся эмигрантами в Париже или в Нью-Йорке, они оказываются на месте Ганина и Годунова-Чердынцева, живших в чужом городе вместе с другими, такими же, как они, изгнанниками.
Сам ареал русской культуры с государственными границами никогда не совпадал, а степени этого несовпадения зависели от конкретных исторических обстоятельств. Тематический (локальный) текст культуры, важная составляющая самого механизма её наследования, связывал культуру сквозь пространство и время. Важным центром сборки русского наследия как такового оказался и русский Берлин.