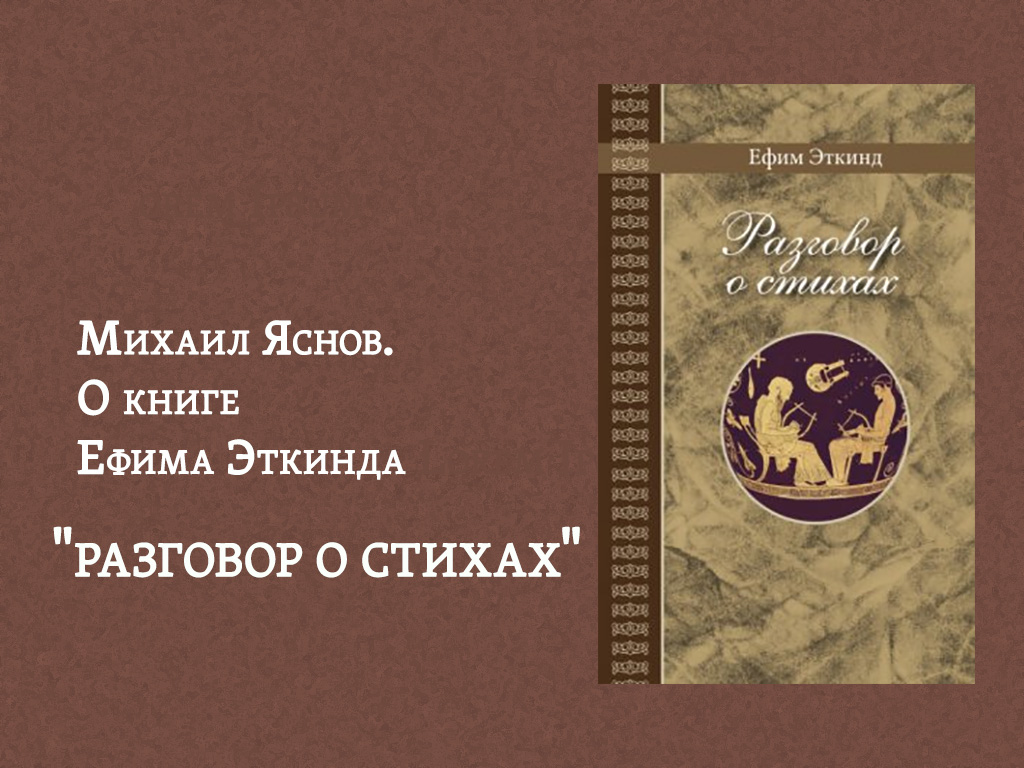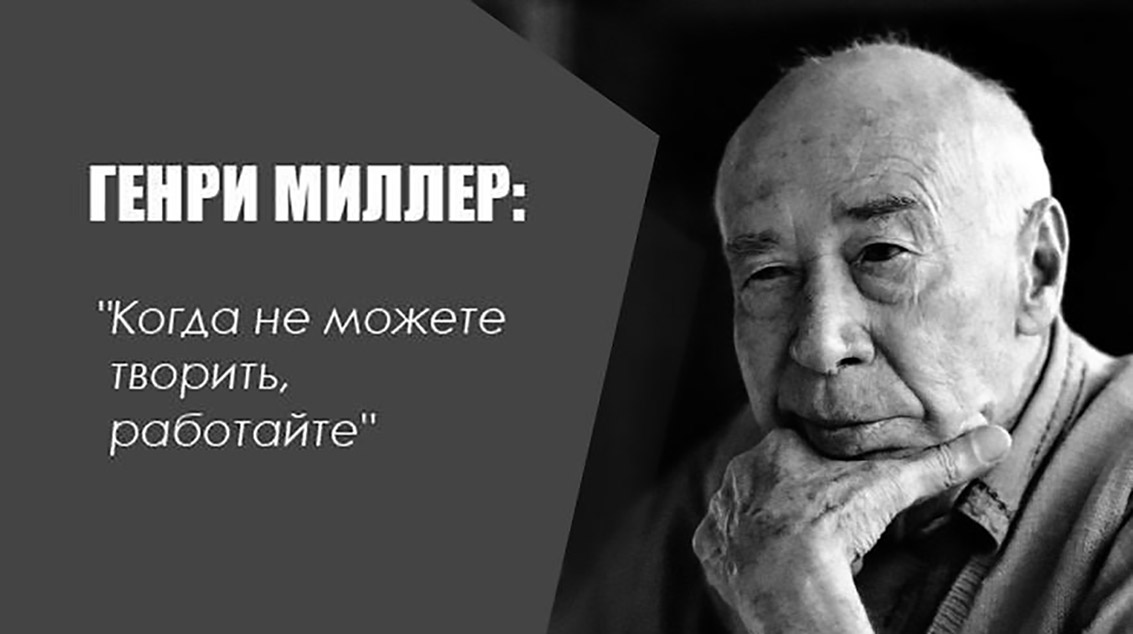«Прошедшее невозвратное…»
Если иным поэтам идет смокинг и галстук-бабочка, то поэта Рейна легче всего представить в клетчатой фланелевой рубашке. Он сентиментален, он бесхитростен, непосредствен, он скорее посокрушается над собственной незадачливостью, чем будет умничать, он если и щеголяет эрудицией, то подает ее с улыбкой — не то иронической, не то усталой, а скорее, и той и другой вместе. Его стихи весьма доступны, они (при всем их тонком строении) нацелены на читателя, и, хотя Рейн давным-давно стал мэтром и даже удостоен Государственной премии, я вполне могу представить их декламацию на какой-нибудь московской кухне, за добрым стаканом водки. Читать их — или слушать — прежде всего, интересно — ручаюсь, а я читатель поэзии такой же, как и все остальные, то есть достаточно ленивый.
Известно, сколь артистически умеет Евгений Рейн претворять обыденность в искусство. Это становится еще очевиднее после знакомства с недавно изданной книгой “Предсказание”: всего пятнадцать вещей, относящихся к промежуточному жанру — поэма не поэма, стихотворение не стихотворение, объемом в 5-10 страниц, почти всегда с сюжетом, по большей части — белый стих, иной раз даже сбивающийся на верлибр.
Жанр основательно забытый со времен Волошина и Багрицкого. Впрочем, у истоков поэм Рейна стоит, пожалуй, скорее Ходасевич, написавший несколько сравнительно длинных повествовательных вещей белым стихом, родственных сочинениям современного поэта по главной теме: осмысление прошлого, осознание вещей, не побоимся этих слов, трагических и высоких, на материале, который на первый взгляд представляется бытовой зарисовкой. (Кстати, “Предсказание” и начинается с эпиграфа из Ходасевича).
Поэмы в сборнике охватывают 20 лет. Тем не менее “Предсказание” производит впечатление не сборника, а книги. Удивительная книга: не хронологически организованная, но как бы вызревавшая в недрах творчества весьма плодовитого поэта по признаку жанра. И хотя многие из поэм публиковались раньше, собранные вместе, они значительно выигрывают.
Лет десять назад в статье о книге Рейна “Имена мостов” автор этих строк обратил внимание на внешнюю антипоэтичность кое-каких его приемов. Тяга к длинным размерам и небрежным рифмам, обилие предметов и простодушных наблюдений, сюжетность — все это нередко создавало картину, как бы взятую “прямо из жизни”, почти прозаическую.
Поэма по-английски называется “описательное стихотворение”. Вещи Рейна в “Предсказании” — именно описательные и именно стихотворения. Их кажущееся приближение к прозе, конечно, ложно. Прежде всего, потому, что в них, как вешки, расставлены знаки сильного, нередко безысходного чувства, которые в прозе звучали бы перебором. Один из любимых приемов Рейна, разумеется, употребление особой категории времени, которое так и тянет назвать прошедшим невозвратным.
Впрочем, у него удивительные отношения и со временем, и с пространством культуры — основанные на свободном обращении и с тем, и с другим. На протяжении нескольких строчек может пройти и пять, и десять лет, прошлое осмысляется с позиции другого прошлого, иной раз — настоящего, которое, что ни говори, тоже стремительно становится прошлым.
При этом лишь внимательное чтение позволяет оценить гармонию этих стихов. Поначалу кажется, что поэт пишет, подобно акыну:
Давным-давно, пятнадцать лет назад,
по тепловатой, пасмурной Москве
я шел впотьмах с Казанского вокзала…
.….….….….….….….….….….….….….….….……
Еще на лестнице я понял, что квартира,
куда иду я, будет многолюдна,
поскольку предо мною и за мною
туда же шла приличная толпа.
Две комнаты теснили и шатали
вольнонаемники поэзии московской,
исполненные хамства и азарта…
Картина поэтического чтения на чьей-то квартире в Москве в 1956 году так и осталась бы жанровой зарисовкой, если б не отношения поэта со временем: мы смотрим на вечеринку сразу из двух времен, из тогдашнего (прошедшего невозвратного) и будущего, спустя пятнадцать лет.
Цитируя гордость хозяина вечеринки — сочиненный им довольно дурацкий перевертыш, — Рейн дает лишь приблизительное подобие палиндромона, то есть — не само наблюдение, а прообраз, как он вспомнился ему через пятнадцать лет.
Сибиряк Ваня Дутых — через четыре года, “закоченев в блевотине обильной, лежал сибирский бард лицом к стене. А через месяц на прилавки поступило его собранье первое “Кедрач”…
Сережа Ковалевский, “изящный, томный, прыщеватый мальчик, наследник Кузмина и Мандельштама”, через пять лет “стихи забросит он, возненавидит, он женится в Рязани на крестьянке, родит троих детей, и будет жить то счетоводством, то и пчеловодством, а позже станет старостой церковным”.
Парфенов, который “вел себя как Ювенал, как Гейне, как Беранже, как Дант, как Саша Черный”… “лизоблюдом стал и негодяем, чиновником с уклоном в анонимку”.
Лопатин, “веселый, легкий, славный человек”, “умер в лагере от прободенья язвы годов примерно тридцати пяти”…
Потом автор ухаживает за некоей “брюнеткой” и провожает ее домой — всё — отменный легкий фон, а потом “через десять лет мы навсегда забросили друг друга, и через много лет в такой же час, расставшись на вокзале со спутницей моей, я понял: вот и молодость прошла, и дальше в этой непробудной жизни нет для меня ни страха, ни греха”.
Грех цитировать эту поэму — ее нужно прочесть целиком и обнаружить, к собственному удивлению, как из сравнительно небольшого количества обыкновенных слов, стократ пережитых самим читателем ситуаций, вдруг рождается и картина эпохи, и история жизни поколения, и история “страха и греха”, выпадающих на долю каждого из нас…
Почти каждое стихотворение (поэма?) в этой книге не столько новелла, сколько конспект романа. Но эти определения приблизительны, хотя бы потому, что все они написаны от первого лица. Прозаик, тот же Чехов, который почему-то все время вспоминается при чтении Рейна, пишет все-таки о других, присутствуя в своих рассказах разве что эфирной тенью. Рейн — поэт. И там, где в прозе существовали бы отдельные от автора герои, только частично отражающие его судьбу, он выступает на сцену либо сам, либо в роли живого соучастника событий, во всяком случае, делает все, чтобы мы отождествляли лирического героя с самим автором, чтобы нам хотелось бродить маршрутами его прогулок и выспрашивать точные имена, даты, места событий. Например, страшно хочется догадаться, кто такой Клим Поленов, вполне естественно выглядящий в ряду писателей, о которых Рейн ради куска хлеба писал сценарии для “научпопа”. Асеев? Тихонов? Сельвинский? Нет, эти помянуты под своими именами. На то, вероятно, и талант, чтобы мы чувствовали себя, как в кинотеатре, где, понимая условность плоского экрана, ты все же — хотя бы на время сеанса — с удовольствием отдаешься иллюзии того, что все это происходит на самом деле.
Часть сюжетов вполне правдива, поскольку поддается перекрестной проверке, часть, вероятно, представляет собой некое обобщение. Но проводить границу между первыми и вторыми не стоит — поэмы написаны так убедительно, что, в конце концов, начинаешь верить даже в существование собирательного Клима Поленова и даже — о Господи! — не коробит от прямых сентенций, в ином контексте показавшимися бы безвкусными:
Нельзя всю жизнь прожить, как жил Поленов,
и “Фауста” под занавес создать…
Поэзия прямой речи — без иронии и кокетства — искусство трудное. Всегда есть риск оказаться осмеянным. Всегда существует оглядка на классиков, на коллег, мучительное чувство, что все уже сказано, да и вообще, век наш иронический, век всезнающий — не лучше ли обойтись ужимкой, замысловатой метафорой, пересмешничеством, словом, от ответственности за прямую речь ускользнуть. (Об этом течении замечательно писал когда-то Александр Сопровский.) Высказывание (каковым является лирическое стихотворение) — еще куда ни шло. Дискурс на большом пространстве — Господи помилуй. Читатель просто заскучает (не потому ли жанр поэмы все-таки, что ни говори, не прижился в русской литературе?).
Поэмы Рейна — несомненная удача. Не стесненный условностями рифмованной, ограниченной во времени речи, поэт очевидно наслаждается той свободой, которую дает ему практически им самим изобретенный жанр. Они играют, они трогают — и тем, что мы отождествляем себя с незадачливым героем, что написаны с такой искренностью и страстью. Точнее, с бескорыстной искренностью и бескорыстной страстью — иронии над самим собой в поэмах, в общем, достаточно.
Наверное, годы работы на “научпопе” сыграли свою роль — вся книга насыщена зримыми, почти осязаемыми предметами, образующими строгий черно-белый ряд, напоминающий мне фильмы Джима Ярмуша. Заметим, что лирическая энергия стихов (недоброжелатели могут назвать ее сентиментальной) настолько сильна, что художественный мир Рейна легко притягивает самые разномастные объекты: людей, ситуации; попадая в такое силовое поле, всё это добро подвергается мгновенному облагораживанию, осмыслению, одушевлению.
В столетнем парке, выходящем к морю,
была береговая полоса
запущена, загрязнена ужасно.
Во-первых, отмель состояла больше
из ила, чем из гальки и песка,
а во-вторых, везде валялись доски,
и бакены измятые, и бревна,
и ящики, и прочие предметы…
Этот перечень обретает смысл в сопоставлении с основным текстом — портретом женщины, написанным с любовью и сожалением, и с концом поэмы — «прощай, до смерти не забыть тебя… как жаль, что я не Ксеркс и не Аттила, и даже не пастуший царь, что взял бы тебя с собой…» да и речь в поэме не о прогулке, а о последнем свидании. Раз оно последнее, запоминается всё.
Ну что, дружок, еще случится с нами?
Лишь суесловия да предисловья,
а вот с хозяином квартиры ленинградской
и этого не будет…
Возникает вопрос: почему книга называется “Предсказание”, если посвящена прошлому и созданию таких координат, в которых “искусство” возникает из реальных вещей и положений?
… Американка, чудный человек, припёрла
виски, джин и “Кэмел”. Ведь “Кэмел”
ценил поэт еще тогда в России.
Итак, привет тебе, американка!
Твоим верблюдам пламенный привет!
Мы за столом о том, о сем болтаем.
И вдруг отец поэта говорит: пора.
Осталось ровно пять минут.
Балконные распахивая двери,
отец поэта предлагает нам
десятикратный цейсовский бинокль,
и мы выходим. Боже, что я вижу!
От самого Литейного толпа!
Дождь всё идет, графитным блеском
сияет черный мокрый Ленинград,
почти у всех в руках зонты и свечи,
и свечи светят сквозь зонты,
и это китайские фонарики как будто.
И крестный ход. И очередь моя держать бинокль.
Настраиваю линзы. Я вижу, как идут они в дожде.
Идут! Христос Воскрес! Воистину!
И бьют куранты полночь.
Писать такие стихи — уже тогда, в те глухие годы, — означало предсказывать наличие в жизни смысла и ее тождественность поэзии. Сбылось ли?
Евгений Рейн «Персональный сайт»