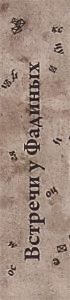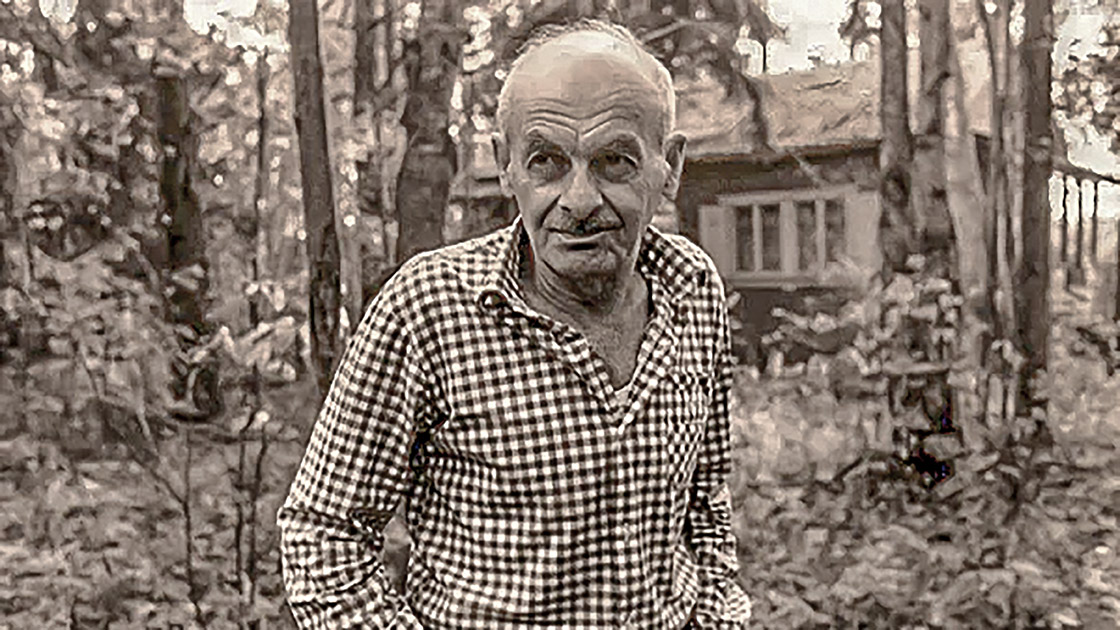Мандельштам и Германия
Эссе
1
Мандельштаму в редчайшей степени было присуще «чувство Европы»
– то высокое, светлое и плодотворное ощущение духовной цельности, которой обладал, при всей своей мозаичности, европейский культурный мир – сей «средиземный краб или звезда морская». Все элементы этого целого тем явственней запечатлелись в мандельштамовском сознании, что встречи с ними произошли в детстве, когда впечатления ярки и неистребимы: Польша, Латвия, Литва, Финляндия – по родственным и семейным обстоятельствам (не забудем и знакомства Мандельштама с певческими праздниками Эстонии), Франция и Швейцария – через гувернанток, Италия, Чехия и Польша – через музыку (посещение с матерью оперы и концертов). И едва ли не ярчайшими изо всех стали для него именно немецкие впечатления, повлиявшие в степени, соизмеримой только с еврейскими или русскими.
Немецкое – попадалось на глаза на прогулках по Петербургу: «Мы ходили гулять по Большой Морской в пустынной её части, где красная лютеранская кирка и торцовая набережная Мойки. Так незаметно подходили мы к Крюкову каналу, голландскому Петербургу эллингов и нептуновых арок с морскими эмблемами, к казармам гвардейского экипажа» («Шум времени»: «Ребяческий империализм»). Этот «голландский Петербург» семи-восьмилетний Мандельштам, тогда ещё не Осип, а Иосиф, не обинуясь, «считал чем-то священным и праздничным».
Но самые прочные «немецкие» ассоциации прописались дома. Отец поэта, Эмиль Вениаминович Мандельштам, в юности учился в берлинской Высшей талмудической школе, откуда, впрочем, бежал. Германофилом он оставался всю жизнь. В отцовском кабинете, в своеобразно-естественном окружении мускусного запаха иудаизма, стояли и «турецкий диван, набитый гроссбухами, чьи листы папиросной бумаги исписаны были мелким готическим почерком немецких коммерческих писем», и главное – «стеклянный книжный шкапчик, задёрнутый зелёной тафтой».
«Над иудейскими развалинами, – вспоминал Мандельштам в «Шуме времени». – начинался книжный строй, то были немцы: Шиллер, Гёте, Кернер – и Шекспир по-немецки – старые лейпцигско-тюбингенские издания, кубышки и коротышки в бордовых тиснёных переплётах, с мелкой печатью, рассчитанной на юношескую зоркость, с мягкими гравюрами, немного на античный лад: женщины с распущенными волосами заламывают руки, лампа нарисована, как светильник, всадники с высокими лбами, и на виньетках виноградные кисти. Это отец пробивался самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» («Шум времени»: «Книжный шкап»)
Продолжим цитату: «Ещё выше стояли материнские русские книги – Пушкин в издании Исакова – семьдесят шестого года. Я до сих пор думаю, что это прекрасное издание, оно мне нравится больше академического… У Лермонтова переплёт был зелёно-голубой и какой-то военный, недаром он был гусар. Никогда он не казался мне братом или родственником Пушкина. А вот Гёте и Шиллера я считал близнецами. Здесь же я признавал чужое и сознательно отделял. Ведь после 37-го года и стихи журчали иначе. А что такое Тургенев и Достоевский? Это приложение к «Ниве». Внешность у них одинаковая, как у братьев. Переплёты картонные, обтянутые кожицей. На Достоевском лежал запрет, вроде надгробной плиты, и о нём говорили, что он «тяжёлый»; Тургенев был весь разрешённый и открытый, с Баден-Баденом, «Вешними водами» и ленивыми разговорами. Но я знал, что такой спокойной жизни, как у Тургенева, уже нет и нигде не бывает».
Звучал в доме и немецкий язык – составная часть того, как говорил отец. «Речь отца и речь матери – не слиянием ли этих двух питается всю долгую жизнь наш язык, не они ли слагают его характер? Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь… У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? – Нет. Речь немецкого еврея? – Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? – Я таких не слышал. Совершенно отвлечённый, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договорённая фраза – это было всё что угодно, но не язык, всё равно – по-русски или по-немецки. По существу, отец переносил меня в совершенно чужой век и отдалённую обстановку, но никак не еврейскую. Если хотите, это был чистейший восемнадцатый или даже семнадцатый век просвещённого гетто где-нибудь в Гамбурге. Религиозные интересы вытравлены совершенно… Четырнадцатилетний мальчик, которого натаскивали на раввина и запрещали читать светские книги, бежит в Берлин, попадает в высшую талмудическую школу, где собирались такие же упрямые, рассудочные, в глухих местечках метившие в гении юноши: вместо Талмуда читает Шиллера, и, заметьте, читает его как новую книгу…» («Шум времени»: «Хаос иудейский»)
Немецкий язык звучал и в школе: «На уроках немецкого языка пели под управлением фрейлин: «O Tannenbaum, o Tannenbaum!». В «Сведениях об успехах и поведении ученика 3 класса Тенишевского училища Мандельштама Осипа за 1901/2 г.», читаем: «Русский язык: За год чрезвычайно развернулся. Особый прогресс наблюдается в самостоятельном мышлении и умении излагать результаты его на бумаге. Немецкий язык: К делу относится прекрасно, речью владеет довольно свободно, читает и пишет вполне удовлетворительно», а в выданном ему за номером 24 аттестате Тенишевского училища в графе «немецкий язык» стоит пятёрка.
Есть ещё одно – несколько неожиданное – свидетельство тонкости проникновения Мандельштама в немецкую речь и немецкую культуру. Весь шуточный цикл «Антология житейской глупости» построен на обыгрывании русской «кальки» классической немецкой фразы, её зачина: «Das ist…». Буквальный перевод – «Это есть…», но так никто не говорит. В результате – прекомический эффект, в случае с Натаном Альтманом усиленный ещё и обыгрыванием фамилии художника:
Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман –
Очень старый человек.
Он художник старой школы,
Целый свой трудится век,
Потому он невесёлый,
Очень старый человек.
(Очевидцы свидетельствуют, что в авторском исполнении пародировалась ещё и немецкая фонетика: «Отшэнь старий тшэловэк…»).
Вспоминая в «Шуме времени» о тех годах, Мандельштам помянул и Германию: «А всё-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своём монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых» («Шум времени»: «Тенишевское училище»).
Долго ещё немецкая и еврейская основы – неразлучной парою – будут сопровождать Осипа Эмильевича. Хотя жизнь, конечно, содержала образчики и нарочито «раздельного» их существования – например, на Рижском взморье, где «…по рельсовой подкове, на песчаной насыпи, сколько хватает глаз, бегают игрушечные поезда, набитые «зайцами», прыгающими на ходу, от немецкого чопорного Бильдерлингсгофа до скученного и пахнущего пелёнками еврейского Дуббельна…
Всю землю держал барон с моноклем по фамилии Фиркс. Землю свою он разгородил на чистую от евреев и нечистую. На чистой земле сидели бурши-корпоранты и растирали столики пивными кружками. На земле иудейской висели пелёнки и захлёбывались гаммы. В Маойренгофе, у немцев, играла музыка – симфонический оркестр в садовой раковине «Смерть и просветление» Штрауса. Пожилые немки с румянцем на щеках, в свежем трауре, находили свою отраду.
В Дуббельне, у евреев, оркестр захлёбывался патетической симфонией Чайковского, и было слышно, как перекликались два струнных гнезда. Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением…» («Шум времени»: «Хаос иудейский»).
Вот и наметилась другая многозначительная «пара» с немецким капиталом – Германия и музыка. Но этой темы мы ещё коснёмся.
А пока ещё одна «связка» с участием Германии: «Германия – социал- демократия – революция». Недаром одна из главок «Шума времени» озаглавлена: «Эрфуртская программа». Мандельштам даже за Маркса брался, но «обжёгся, и бросил – вернулся опять к брошюрам: «Капитал» Маркса – что «Физика» Краевича. Разве Краевич оплодотворяет? Брошюра кладёт личинку – вот в этом её назначенье. Из личинки же родится мысль… Здравствуй и прощай, Каутский, красная полоска марксистской зари!
Эрфуртская программа, марксистские Пропилеи, рано, слишком рано, приучили вы дух к стройности, но мне и многим другим дали ощущенье жизни в предысторические годы, когда мысль жаждет единства и стройности, когда выпрямляется позвоночник века, когда сердцу нужнее всего красная кровь аорты! Разве Каутский Тютчев? Разве дано ему вызывать космические ощущенья («и паутинки тонкий волос дрожит на праздной борозде»)? А представьте, что для известного возраста и мгновенья Каутский (я называю его, конечно, к примеру, не он, так Маркс, Плеханов, с гораздо большим правом) – тот же Тютчев, то есть источник космической радости, податель сильного и стройного мироощущенья, мыслящий тростник и покров, накинутый над бездной» («Шум времени»: «Эрфуртская программа»).
Встретившись в темноте отцовского кабинета, в самой речи родительской – и даже в расписании поездов на рижском взморье – русские, еврейские и немецкие (расширяющиеся до всеевропейского) корни – в сущности уже более не расставались, составляя каркас личности поэта. Их соотношение в разное время менялось, но поражала сама по себе их неразлучная слитность.
2
В самом начале августа 1909 года, в Мустамяках, Александр Эмильевич Мандельштам получил от старшего брата открытку с видом террасы ресторана Weinhaus «Rheingold» в Берлине на Потсдамской площади. На обороте – следующий текст: «Дорогой Шурочка! Сижу тут и дожидаюсь поезда. Вспомнил о тебе и решил послать тебе это вещественное доказательство своих губительных наклонностей. Одновременно пишу маме. Твой Ося».
Поезд, которого поджидал Осип Мандельштам, скорее всего должен был доставить его в Женеву или Лозанну. В Монтрё в это время уже находились мать и младший брат, Евгений, а сама эта ироническая открытка фиксирует, кажется, первую личную встречу поэта со страной, о которой, в сущности, он уже столько знал.
Но никакое заочное знание не могло бы заменить в мироощущении Мандельштама те полгода, что он провёл непосредственно в Германии. В конце сентября или начале октября 1909 года, оставив домашних на курорте, Мандельштам переехал в Гейдельберг. Записавшись на философском факультете на зимний семестр 1909/1910 годов, он провёл здесь осень, зиму и весну, по крайней мере её начало. Весной 1910 года Мандельштам, предположительно, ездил в Италию, откуда вернулся уже не в Гейдельберг, а в Санкт-Петербург.
В действительности мы не знаем, как Мандельштам учился, сколь исправно он посещал лекции и семинары – хотя бы те, на которые записался. Но мы точно знаем, что он был занят и другим, и, может статься, это «другое» как раз и было для него – уже тогда – самым главным.
«Другое» – это, конечно, стихи. Но в стихах того времени – практически ни единого слова о Гейдельберге или о Германии. Впечатления накапливались, но не рвались наружу.
3
Черёд же стихов, так или иначе связанных с Германией, подошёл только в 1913 году; первым, насколько можно судить, было стихотворение «Бах»:
Здесь прихожане – дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом – Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.
Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О, рассудительнейший Бах!..
В тот же год лютеровская строчка – «Hier stehe ich – ich kann nicht anders…» – легла в эпиграф и начало знаменитого четверостишия:
«Здесь я стою – я не могу иначе»,
Не просветлеет тёмная гора –
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.
«Кряжистость», крестьянскость, огненная романтическая наивность, по Мандельштаму, – непременные спутники немецкого духа. Превосходно зная «правила», среду, почву, регламент, Мандельштам тем более ценил «исключения». Тот же царственно-жертвенный костёр бетховенских симфоний, например, их личностный и в высоком смысле индивидуалистский источник.
…Между тем незаметно подкрался июль 14-го года. Выстрел, грянувший в Сараево, разбудил бога войны и всех её бесов. Россия и Германия оказались врагами, в стихи ворвались сполохи пожаров, обстрелов, смерти. Истинная хрупкость и зыбкость неоспоримых культурных ценностей внушала ужас.
В сентябре европейцы были поражены известиями о бомбардировках немцами готических красавцев-соборов во французских городах: «Отныне и вовеки, – писал известный журналист В. И. Немирович-Данченко, проклятие и презрение тебе, некогда великая страна, павшая сейчас до последних степеней варварства… Мы не пойдём за тобою. Мы пощадим твой Кёльнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах – от призраков таких же, как и он, великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена» Сходные чувства испытывал, по-видимому, и Мандельштам. В том же сентябре 1914 года он написал стихотворение «Реймский собор» (другой вариант заглавия: «Реймс и Кёльн»), с которым не раз выступал на различных вечерах (сборы от них, как правило, шли в пользу лазаретных касс). Вот первоначальная – «длинная» – версия этих стихов:
Шатались башни, колокол звучал –
Друг горожан, окрестностей отрада,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.
Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога
Пока не разорвётся олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших бога.
Но в старом Кёльне тоже есть собор,
Неконченый и всё-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор.
Он потрясён чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
– Что сотворили вы над реймским братом?
Тут примечательно само противопоставление «германского» – как отвлечённо-имперского, воинственного, грубого – и «немецкого» – как причастного культуре, совести, христианству. «Германец выкормил орла», – как будет сказано позднее в стихотворении «Зверинец», или «Ода миру» (1916). Призывая запереть всех воюющих, державных «зверей – орла, льва, петуха, медведя – в душеспасительном «зверинце», Мандельштам обращался к праистокам – «вину времён», к равно необходимому всем и каждому «льну», к глубинному очистительному свету великих рек – Волги и Рейна, испокон века призванных обмывать раны великих своих стран и народов. Символическое значение этих рек было столь прочно и неоспоримо, что и годом позже, когда всё окончательно перепуталось, и отброшенная во времена варварства Европа («Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенётах…») не представляла уже, что на самом деле с нею станется, именно через реки Мандельштам уловил и по-своему выразил, напророчил грядущее историческое небытие и России, и Германии, их союзную, их роковую причастность к царству мёртвых:
…Всё перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Всё перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.
Внутренняя коннотационная взаимозаменяемость таких связок как «Россия – Волга» или «Лорелея – Рейн – Германия» в процитированном стихотворении «Декабрист» (июнь 1917) самоочевидна.
Это же подтверждает и набросок 1935 года, созданный во время работы над циклом «Кама»:
Это я. Это Рейн. Браток, помоги.
Празднуют первое мая враги.
Лорелеиным гребнем я жив, я теку
Виноградные жилы разрезать в соку.
В другом пореволюционном стихотворении («Когда на площадях и в тишине келейной мы сходим медленно с ума…», декабрь 1917) отрезвляет вино, «холодный и чистый рейнвейн», предложенный поэту – и поэтом от лица чисто российской «стужи» и «жестокой зимы». Насколько же, воистину, «всё перепуталось»!
Вскорости было написано и стихотворение «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта – родная колыбель…» У этого стихотворения есть чёткий адресат – Анна Ахматова – и столь же чёткий импульс: посещение вместе с ней концерта певицы О.Н. Бутомо-Названовой, состоявшегося 30 декабря 1917 года в Малом зале Петроградской консерватории. Стихотворение, открывающееся эпиграфом из Гейне, – «Du, Doppelgänger, du, o bleicher Geselle!..» – и вовсе переносит нас в Германию – в ту самую, где философствующий школяр любовался с противоположного берега городом, замком, рекой под вдохновенный аккомпанемент соловьёв. Знаменитые шубертовские романсы – на стихи Гёте («Лесной царь»), Гейне («Двойник»), В. Мюллера («Прекрасная мельничиха»), – как это у него нередко бывает, сплавлены у Мандельштама в одно целое.
Сам же Шуберт встречается и у позднего Мандельштама едва ли не чаще других композиторов. А в стихах, написанных на смерть Ольги Ваксель, – встретим не только упоминание имени Шуберта, но и новые отсылки к его романсным циклам (в частности, к песне «Движение» из цикла «Прекрасная мельничиха»):
…И Шуберта в шубе замёрз талисман, –
Движенье, движенье, движенье.
Бесспорной кульминацией немецкой темы у Мандельштама является стихотворение «К немецкой речи» – уникальное в целом ряде отношений.
К немецкой речи
Б. С. Кузину
Freund! Versaeme nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange gluehn!
Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонёк полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За всё, чем я обязан ей бессрочно.
Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьёзности и чести
На западе у чуждого семейства.
Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы
И на губах его была Церера…
Ещё во Франкфурте купцы зевали,
Ещё о Гёте не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.
Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щёлкали орехи,
Какой свободой мы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.
И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.
Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.
Когда я спал без облика и склада
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен
Бог-Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык – он мне не нужен.
Бог-Нахтигаль, меня ещё вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живёшь, и я с тобой спокоен.
8–12 августа 1932
P. S. Еще два слова о немецкой речи. Может статься, она звучала в ушах Мандельштама и в самые последние дни его жизни. По одной из легендарных версий, врачом, смотревшим за умирающим поэтом и принявшим его смерть, был немец Мюллер.