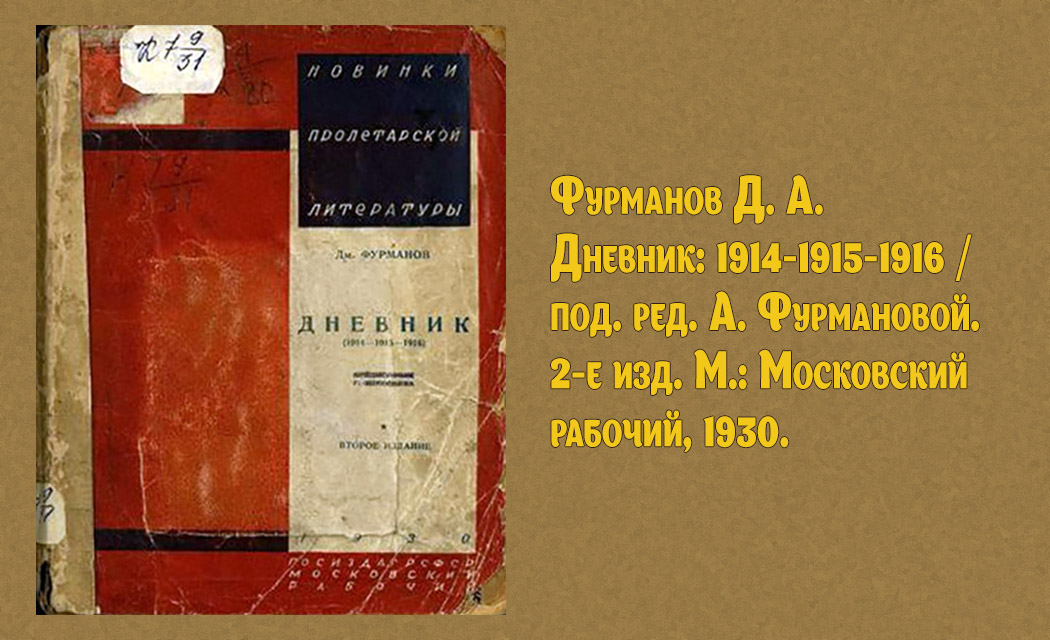Отечество. Блатная песня…
Народ? Начинай сначала (поминай как звали). Где и что он такое – народ? Коллективная сила? Опора? Держава? Абстракция? Идеал? Патриотическая фикция? Эгоизм, путём родства, возведённый в квадрат? Этнография?..
Сижу я це-е-льный день, скучаю,
В окно тюремная гляжу…
Пьяный пристаёт. За рублём. «– Но я ж русский человек?!» Клянётся и в рот, и в нос, что он русский. Сунешь ему рупь – отвяжись. А он своё: «– Я – русский?!… Я русским языком тебе говорю?!..»
Как спрашивает себя (и нас), удостоверяясь. И будто негодует или жалуется кому-то: русский!..
Окромя «русского», ничего за душой. Ни принадлежности к истории, к обществу, к семье, к собственности, к какому-нибудь селу или городу, к заводу или колхозу. Он мать и отца не помнит. Имя забыл. Жену и детей рассеял. Он совесть пропил. В Бога не верит и не чует под ногами земли, по которой ходит. Только повторяет угрюмо, заученно, как бы сомневаясь или надеясь на что-то: русский он всё еще или не русский?..
Что-то похожее случается иногда со всеми нами. Потеряв всё, мы спрашиваем тревожно: русские мы или не русские? Будто бы это главное… Француз почему-то не спрашивает. И англичанин. Я проверял. Испанец не пристанет к прохожему: «нет, ты мне ответь – испанец я или не испанец?! тебе говорят испанским языком!..» Можно и на японском.
Только мы одни так себя окликаем. Чувство бесприютности, потерянности лица владеет нами, выливаясь в извечный вопрос, в единственное и последнее (телесное) определение души: русские или не русские?.. Как эхо. Терзаем себя, убиваем друг друга, оплакиваем… Выясняем, что значит быть русским и что не быть. Есть разные рецепты… Мне (за других не говорю) на память, на помощь обычно приходит песня. Увы, не старинная и не классическая, не дворянская и не крестьянская. Ничья. Без дома, без рода (и даже без паспорта).
Сижу я цельный день, скучаю,
В окно тюремное гляжу.
А слезы катятся, братишка, незаметно
По исхудалому Мому лицу…
Можно и повеселее:
А поезд был набит битком,
А я, как курва, с котелком –
По шпалам, по шпалам!..
Блатная песня. Национальная, на вздыбленной российской равнине ставшая блатной. То есть потерявшей, кажется, все координаты: чести, совести, семьи, религии… Но глубже других современных песен помнит она о себе, что она – русская. Как тот пьяный. Всё утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться «своей», «подлинной», «народной», «всеобщей». Когда от общества нечего ждать, остаётся песня, на которую всё еще надеешься. И кто-то еще поёт, выражая «душу народа» на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая: русский ты или не русский?!..
Знаю – возразят: да разве ж это народ? Это же подонки, отбросы. Всё самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра, зверином племени. Возможно. Допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто повесть о блатной преисподней, лежащие за пределами (как, впрочем, и в пределах) собственно-воровского промысла…
Посмотрите: тут всё есть. И наша исконная, волком воющая, грусть-тоска – вперемежку с диким весельем, с традиционным же русским разгулом (о котором Гоголь писал, что, дескать, в русских песнях «мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унестись куда-то вместе с звуками»). И наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого. Бродяжничество. Страсть к переменам. Риск и жажда риска… Вечная судьба доля, которую не объедешь. Жертва, искупление Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву и взошли, в конце концов, не одной лишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объёме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.
Мало того, собственно блатной (воровской или хулиганский) акцент и позволил этой стихии на несколько десятилетий сделаться единственно национальной, всеобщей, оттеснив на задний план деревенский и пролетарский фольклор. И тот же постыдный акцент сообщает подчас поразительную живость традиционным мотивам, казалось бы, вышедшим из моды с успехами прогресса. Скажем, любовный песенный диалог (амебейное пение: «– А мы просо сеяли-сеяли! – А мы просо вытопчем-вытопчем!..») – возвращается на родину в виде нового состязания, где «он» и «она» как бы меняются местами.
Он:
Ты не стой на льду –
Лёд провалится.
Не люби вора –
Вор завалится.
Вор завалится – станет чалиться,
Передачу носить – не понравится.
Она:
Для стояла на льду –
И стоять буду!
Д’я любила вора –
И любить буду!
Эх, знала бы – не давала бы
Черноглазому огольцу
… Или вспомним и утолим, наконец, страсть к быстрой езде («и какой же русский не любит быстрой езды?»), высказанную столькими тройками, бубенцами, ямщиками и подхваченную – трамваем.
Держась за ручки, словно ж… своей Раи,
Наш Костя ехал по Садовой на трамвае,
За ним гналися тридцать ментов, два агента
И с ними щейка – рыжий пёс!..
О том же (так притягательно!):
…По трамваям всё скакаешь,
Рысаков перегоняешь…
А русский максимализм («душа просит») – в требованиях парадоксальных, заносчивых, беззаконных!
Дрын дубовый я достану,
Всех чертей калечить стану:
Отчего нет водки на Луне?!..
И тут же, под боком, – прелестная воровская Утопия, как пародийное (невольно) развитие социалистической идеи, либо давней нашей мечты о земном рае, о сказочном царстве-государстве с молочными реками и кисельными берегами:
Там кодексов совсем не существует,
А кто захочет – тот идёт ворует.
Рестораны, лавки, банки
Лишь открыты для приманки,
О ворах никто и не толкует…
Короче говоря, и не занимаясь специальным анализом, достаточно окинуть беглым взглядом этот заклятый вертоград, чтобы убедиться, насколько, с одной стороны, он укоренён в традиции, а с другой – как она препарируется здесь по-новому, в высшей степени неожиданно и поэтически оригинально. И что-то сходное по остроте мы наблюдаем в схватывании внезапных примет современности или разительных, неповторимых жестов и движений человека. Когда, например, в избитую общую схему («любил – убил») вносятся замечания сугубо индивидуального опыта, необычные для фольклора в своей режущей конкретности:
Сижу я в несознанке, жду от силы пятерик,
Как вдруг случайно вскрылось это дело.
Пришёл еврей Шапиро, мой защитничек старик:
– Ну, – говорит, – не миновать тебе расстрела!..
Не следует забывать, что взгляд вора, уже в силу профессиональных навыков и талантов, обладает большей цепкостью, нежели наше зрение. Что своею изобретательностью, игрою ума, пластической гибкостью вор превосходит среднюю норму, отпущенную нам природой. А русский вор и подавно (как русский и как вор) склонен к фокусу и жонглёрству – и в каждодневной практике, и тем более, конечно, в поэтике. Образ вора художника, вора-затейника (и волшебника), так хорошо и прочно закреплённый в народных сказках, новое продолжение находит в песне, где тот уже поёт о себе от собственного лица, выступая перед нами наподобие артиста, маэстро, знающего толк в ловкости рук и слова.
Я сын чародея, преступного мира.
Я вор. Меня трудно полюбить…
Полюбить, действительно, трудно, а вот «чародействами» его невольно восхищаетесь. Поскольку само искусство, сама эстетика дела становится здесь нередко центральным предметом поэзии, порождая массу нестандартных и дополнительных стилистических выходок, иной раз весьма рискованных, нескромных или мерзких по смыслу, но достойных удивления как художественный феномен. Быстрота, натиск, смелость и пружинистая внезапность решений, и явное, бьющее на эффект, на показ циркачество. Пускай ручается автор за правдивость повествования в духе «бескрылого реализма»: «вот об этом расскажу я просто – темой выбрал жизненную быль». Главное ему зачаровать и ошеломить зрителя курьёзной и лихой эскападой, заимствуя порою приёмы из привычного арсенала, из воровского хулиганского жаргона-обихода, что, однако, в поэтическом контексте звучит безобидно и празднично, как прекрасная для автора и его благодарной публики театральная программа-забава, готовая со сцены убогого, в общем-то, быта перекинуться разбойничьим посвистом на весь белый свет.
И перекидывается… Это мы видим в самой, наверное, известной и сравнительно ранней песне «Гоп-со-смыком», оказавшей такое влияние на блатную музыку. Едва ли не всё мироздание обращается там в арену гиперболического воровского «Я», представленного в основном цирковыми номерами, прыжками, акробатикой, клоунадой всякого рода, так что кличка героя Гоп-со-смыком, совпадая с образом всей песни, становится нарицательной – и не просто в социально-житейском аспекте, а даже, можно заметить, в стилистическом отношении. Беру не семантику, а экспрессию и звуковую инструментовку этого залихватского имени. «Гоп» – и мы в тюрьме, гоп» – на воле, «гоп» – на Луне, «гоп» – в раю, и всюду – со «смыком», с рёвом, с гиком, с мычанием, с песней, с добычей. Бросается в глаза подвижность композиции, как если бы она отвечала психофизической организации нашего молодца, чьи мысли и воображение прыгают, а тело ритмично движется, будто на шарнирах, – очевидно, из профессиональных задатков и ради высшего артистизма. Не зря, вероятно, на блатном жаргоне «скачок» или «скок» означает квартирную кражу, внезапную, без подготовки (набег, налёт – по вдохновению). И тот же «скок» (или «гоп») мы наблюдаем постоянно в сюжете, в языке, в нахождении деталей, метафор – во множестве похожих и не похожих на «Гоп-со-смыком» творений.
Сошлюсь на дурной вариант, в отличие от основного, классического источника получивший подзаголовок дипломатического «Гоп-со-смыком», где автор скакнул аж в советскую дипломатию и, надо признать, довольно ловко с точки зрения конъюнктуры, чего, однако, не скажешь о его литературных достоинствах (видимо, помешал сторонний «социальный заказ»). Перед нами обзор международной обстановки и советской внешней политики, как это тогда рисовалось по газетам, – в переводе на откровенный язык. Нетрудно установить дату сочинения: до войны с Гитлером, но после уже, либо в начале памятной финской кампании, о чем и поётся в соответствии с патриотической версией: «Финляндия нам тоже приказала: отдайте нам всю землю до Урала…» (Это Финляндия-то!..)
Наиболее удачной в немудрящих этих куплетах представляется громкая отповедь (к сожалению, неудобочитаемая), адресованная иностранным державам от имени непреклонного Советского Правительства. Найдена универсальная формула дипломатического ответа на всевозможные каверзы, ультиматумы, и одновременно проясняется та роковая проблема, над которой столько бились великие философы, историки и поэты – проблема странной, загадочной миссии России между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Об этом, мы знаем, писал в своё время Александр Блок в знаменитом стихотворении «Скифы», вуалируя наглую рифму поэтической инверсией:
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернёмся к вам
Своею азиатской рожей!..
Ну а тут без инверсий. Таинственное «двуединое», «срединное» положение России решено
одним махом, одним скачком, которым берётся этот философский барьер:
Я .… японца в .…
И …… на всю Европу!
Сунетесь – и вас мы разобьём!..
Киндяк, скажете? Фуфло? Туфта? Кукла? Это фуцан написал?!.. Не уверен. Ну, может, и не подлинный вор (вор в законе), а всё же персонаж, причастный к этой материи, весьма обширной и текучей, которую, имея дело с песней (а не с кастой), мы не в силах распределить по мастям: где тут истинный, идущий от корня, от самого нутра, воровской голос, а где простой хулиган ввязался или какая-нибудь сявка. А то, что повсюду на первый план выпирает декорация, эффектный жест, акробатический номер, так это именно во вкусе блатной музыки, повествующей, помимо прочего, о себе самой, о художнике, о приверженности к эстетике, сопряжённой в этих условиях с искусством воровства, а попутно с искусством вообще, как таковым, что и сплетается – в песню.
Взгляните, сколько места отводится тут одеянию, костюму – по контрасту с окружающей бедностью, с низкой действительностью. В этом сквозит безусловно остро пахнущая психология клана: вор на работе должен выглядеть респектабельно, а лёгкое обогащение и кратковременность, эфемерность свободного бытия порождают потребность хоть раз в жизни, коль повезло, блеснуть графом, шикануть по-княжески, разодеть дорогую маруху в пух и прах. Но это же свидетельствует другой своей стороною (вступает скрипка) о художественной натуре, ищущей прикоснуться «к чему-нибудь возвышенному» … Как сама песня: она тоже прикосновение где-то к небесной красоте и тоже исключение из общих правил: такое только раз в жизни бывает… И вот он спрашивает Мурку о мотивах ее предатель-
став, искренне недоумевая: «что тебя заставило связаться с лягашами и пойти работать в Губчека?» Потому что это не только утрата нравственности, но и конец эстетики – была ангел, а чем стала?
Раньше ты носила туфли из торгсина,
Лаковые туфли на большой!
А теперь ты носишь рваные калоши,
Рваные калоши на босой!
«Рваные калоши», с точки зрения правды реализма, явно противоречат новому положению Мурки, которая ходит теперь, сказано, в кожанке и при нагане. Но как еще передать всю глубину ее падения, как лучше оплакать поруганную красоту?!.. Вот и слышим – из песни в песню:
Костюмчик новенький, колёсики со скрипом…
И шкары! и шкары!
И вот меня побрили, костюмчик унесли…
Ах, этот костюмчик!..
«Там за столом сидел один угрюмый,
одет изысканно, с растерзанной душой».
Душа терзалась, как видим, воспоминанием о матери. Сваливается к ней на голову, в подвал, и мать спрашивает:
Ты, сын, пришёл ко мне, изысканно одетый,
Зачем пришёл больное сердце рвать?..
Затем ведь и пришёл, чтобы – сверх переживаний, сверх «растерзанной души» – «изысканно одетым» явиться. Как в театре, занавес раздвигается и –!..
Вдруг стуки в дверь, и двери отворились,
Вошёл в костюмчике и в кожаном пальто…
Нужен ему этот костюмчик! Да он его в карты просадит при первой же оказии. Красота нужна. А чем и как украшаться – это уже зависит от моды, от достатка и темперамента. Кому что наряднее. Одному, допустим, достаточно фонаря под глазом, чтобы радоваться жизни.
Фонарь ношу, а он мене не страшен:
Такой большой, как будто разукрашен!
Если морда не разбита,
Не достоин ты бандита, –
Так уж повелось в квартале нашем,’
Другие, между тем, корчат великосветские рожи, извиваясь в «салонном танго».
…Две полудевы, и один фартовый мальчик,
Который ездил развлекаться в город Нальчик,
И возвращался на машине марки Форда,
И шил костюмы непременно как у лорда.
А третий выходит на сцену и в мир – налегке.
Когда я был мальчишкой,
Носил я брюки-клёш,
Соломенную шляпу
И острый финский нож.
Я мать свою зарезал,
Отца слово убил,
А младшую сестрёнку
В колодце утопил.
Не пугайтесь! Это он кокетничает. Список загубленных душ в данном случае всего-навсего продолжение костюма, изысканный шлейф, боевое оперение юного денди-индейца. Правда, подобная костюмерия на практике плохо кончается. Но в песне она сохраняет по преимуществу декоративный характер, юмористически или сентиментально окрашенный. То же относится к сценам убийства. Они лишены буквального содержания и воспринимаются, как яркий спектакль. Это как в жестоком, экзотическом романсе, с которым блатной жанр близко соприкасается: потребность в красоте берет верх над соображениями разума, утилитарности или морали.
…И убийца, бледнее, чем мел,
Труп схватил, с ним танцуя, запел…
За всем этим просвечивает распространённая философия: «Что наша жизнь? – Игра! (пусть неудачник плачет)». Но в среде, о которой речь, это высказано последовательнее и решительнее, чем где-либо. В итоге люди здесь уже как будто не живут, а непрестанно играют, выкладывая ставкой на стол свои и чужие жизни. Недаром карты составляют необходимый фон воровской судьбы, психологии, иконографии.
Но суд сказал, что карта ваша бита,
За проигрыш придётся уплатить.
Это не обычные игроки-картёжники, испытывающие риск в жизни лишь за карточным столом. В часы досуга вор садится за карты, с тем чтобы, отдыхая, продолжать пытать судьбу, построенную на острой интриге. Он пригубливает авантюрную фабулу, за которую в рабочее время рискует головой. Он не может от неё отвязаться. Не потому, что заядлый картёжник, а потому, что – вор. И карты лишь безвредное (сравнительно), иносказательное сопровождение той крупной игры, которую он ведёт наяву.
Примерно такую же функцию выполняет блатная песня. Она воспроизводит действительность в виде карточной игры. То есть в общем-то схоже, но в более условных или размытых контурах. Это игра, уже очищенная от жизни. В ней мы более или менее остаёмся на уровне искусства, и, хотя создателем оказывается преступник, его позиция «игрока» в сочетании с «песней» перевешивают в эстетику, возбуждая наше бескорыстное любопытство.
Только я шамовки наберу,
Ищу себе партнёра на «буру»,
Целу ночь сижу-играю,
Краденое загоняю,
Утром от разводки убегаю.
Понятно, подмена жизни игрой не сулит ничего доброго человеку и его окружению. Играючи, можно ведь и зарезать, а уж обокрасть сам чёрт велел. Но тот же игровой элемент на заглавных ролях сообщает блатной песне облик театрального зрелища, снимая слишком прямые и близкие аналогии между вымыслом и действительностью. Все происходит не вполне серьёзно, не совсем реально, а как бы в воображении автора, который сам же, случается, эти фантазии саркастически оценивает, играя душою и телом – напоказ – в любом переплёте. Положение обязывает.
Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого мечтаю получить…
Чего он так веселится? чем бравирует? почему упивается контрастами зыбкого своего, ничтожного существования? Да потому скорее всего, что мнит себя артистом, а заодно и режиссёром, и смотрит на своё прошлое уже со стороны, прокручивая его в уме на манер кинофильма, полного возвышенно-комических, игровых ситуаций.
Мне дама ноги целовала, как шальная,
Одна вдова со мной пропила отчий дом,
А мой нахальный смех
Всегда имел успех, –
И наша юность полетела кувырком.
То, что всё пропало, всё погибло, компенсируется сознанием, что зато всё летит кувырком, вроде какой-то карусели, фейерверка, балагана… И даже в минуты уныния, которые чередуются с приступами смеха, такой «отстранённый» подход к собственной персоне и своей печальной судьбе преобладает, заставляя и самую смерть воспринимать как некий художественный аттракцион или коронный фокус, достойный замедленной съемки, который необходимо входит в состав увлекательной фабулы, демонстрируя миру тот же полет «кувырком».
…А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчонка, пропал!
Тревога и выстрел, и вниз головою
С карниза я сорвался и упал.
Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать…
А ты не придёшь ко мне, милая мамаша,
Меня обнимать и целовать.
Как медленно, как нарочито медленно умирает мальчонка, позируя и продлевая страдания в картине злосчастного своего жребия, которым он откровенно любуется… Когда слышишь эти мелодии, закрадывается грустная мысль: какой громадный талант погибает в воровском употреблении! Но тут же спохватываешься: почему же погибает? Погибая, он проявляет себя – ив песне, и в афере. Без аферы песне, к сожалению, не обойтись. Приспособьте ее к полезному производству, и она умолкнет. Уж лучше – в тюрьму…
Центральная!
Ах, ночи, полные огня!
Центральная!
Зачем сгубила ты, меня?
Центральная!
Я твой бессменный арестант,
Погибли юность и талант
В стенах твоих…
Если сама тюрьма похожа на консерваторию, на оперу, на эстраду, то можно представить, какие гастроли начнутся, выпусти актёров на волю… Огней! Вина! Женщин! Карты! Гитару! Карету! Трамвай! Король я или не король?.. И пошла писать. Что ни кража, смотришь, – высокое мастерство. Золотые руки. Глаз – ватерпас. Краснознамённый ансамбль. Комедия дель арте…
На мотив унылых заводских «Кирпичиков» сложены пародийные, бандитские «Кирпичики», забавные и приятные: заурядный грабёж «на гоп-стоп» разыгран по законам зажигательного спектакля. На сей раз перед нами костюмерия навыворот – раздевают шикарного фраера и его
субтильную даму, соблюдая вежливый тон и пунктуальность деталей.
А как вынул он портсигарище –
В ём без мала на фунт серебра…
И вся комическая ситуация (богатый кавалер вдруг становится голым и жалким) решена исключительно средствами зрелищного воздействия, доставляя исполнителям в первую очередь художественное удовольствие – не оттого, что они так ловко обтяпали дельце, а собственно театральной эксцентрикой и картинностью происшедшего. Грабёж заканчивается живописным кадром:
Жаль, что не было там фотографа,
А то славный бы вышел портрет:
Дама в шляпочке и в сорочечке,
А на нем даже этого нет!..
Скажут злорадно: вы бы запели по-другому, когда бы оказались на месте потерпевших. Не спорю. Запел бы по-другому. Но это была бы уже не песня, а печальный факт моей биографии или, возьмём расширительно, «социальное бедствие», «мораль», «полиция», «борьба с преступностью», «юридический казус» и прочее и прочее, что прямого отношения к поэзии не имеет, а иногда и вступает с ней в неразрешимое противоречие. Это совсем не значит, что искусство «внесоциально» или «аморально». Просто социальные и нравственные критерии у него, по-видимому, несколько иные, чем в обычной жизни, более широкие, что ли. Поэтому, например, пушкинский «Узник», как художественный образ, не пройдёт по разряду уголовников, хотя не приведи Господь встретиться с этим «орлом» в каком-нибудь тёмном лесу, где он клевал или клюёт свою «кровавую пищу». И Пугачёв у Пушкина в «Капитанской дочке» не очень-то похож на свой прообраз, на реального Пугачёва, которого тот же Пушкин, в согласии с исторической правдой, непривлекательно описал в «Истории Пугачёвского бунта». А без «выдуманного», «поэтического», пушкинского Пугачёва (в «Капитанской дочке») нам не обойтись, доколе мы, допустим, ищем постичь и русский бунт, и русскую душу, и народ, и фольклор, и самого Пушкина (просто без Пугачёва, как исторического лица, мы в принципе обойдёмся).
Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (а не только физиономии вора), и в этом качестве, во множестве образцов, может претендовать на звание национальной русской песни, обнаруживая – даже на этом нищенском и подозрительном уровне – то прекрасное, что в жизни скрыто от наших глаз. Более того, блатная песня (именно как песня) в своём зерне чиста и невинна, как малое дитя, и глубокой духовной, нравственной нотой, независимо от собственной воли, отрицает преступления, которые она, казалось бы, с таким знанием воспевает. Но в том-то и дело, что воспевает нечто другое. Мы не найдём здесь прославления злодейства в его подлинном, бесчеловечном образе, без каких-либо иных поворотов и обертонов, которые его подменяют, смягчают и уводят в сторону, например, «эстетики», «веселья», «несчастной доли», «геройского подвига», «верности», «любви» и т. д. Словно душа народа не может и не хочет признать себя злой, в корне, в основе злой, и жаждет добра на самых скользких путях… Славен и велик народ, у которого злодеи поют такие песни. Но и как он, должно быть, смятен и обездолен, если ворам и разбойникам дано эту всеобщую песню сложить полнее и лучше, чем какому-либо иному сословию. До какой высоты поднялся! До каких степеней упал!..
Над лагерем склонился сон глубокий,
Луна, сверкая, вышла из-за туч…
А в эту ночь, мой милый, мой хороший,
Письмо тебе строчит родная дочь…
Поёт воровайка, хриплым голосом беря пронзительно-высокую ноту, надрывая сердце себе и слушателям.
Но не жалей ты дочери несчастной,
За преступленье суд ее карал,
Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурор меня назвал…
Мне, однако, довелось слышать эту же песню в несколько ином, странном варианте. Вопреки здравому смыслу, сюжету, логике текста и самой рифме, исполнительница вывела, как припечатала:
Волчицею безжалостной, опасной,
Я помню, прокурора назвала!
Я восхитился. Вот оно – отвержение зла. Да и метафизически прокурор злее и отвратительнее подсудимого, пускай и формально прав. Не с прокурорами же нам заодно поносить бедную грешницу. Она сама себя не щадит и рисует довольно точную картину своего падения:
Одна, одна во всем я виновата,
Одну прошу во всем и обвинить:
Хотела жить роскошно и богато –
Скачки лепить, мадёру, водку пить…
До чего просто, вульгарно и наивно предлагаемое нам миросозерцание. Хочется воскликнуть: вот и вся «роскошь», вся «красота», к которой мы так стремимся и которой недостаёт в этом бедном мире?!.. Нет, не вся. Песня-письмо увенчивается фигурой, в высшей степени внезапной и никак не вытекающей из предлагаемого рассказа. Соглашаясь покрыть долг и расплатиться за грех, за проигрыш, воровайка достигает в финале того «нарушения пропорций» (опять же логики, смысла, рифмы), той «потусторонней ноты», которые и выводят песню на иную орбиту нравственно-поэтического бытия. И это есть освобождение.
Я уплачу его в тайге далёкой,
Я уплачу пилой и топором…
Ах, голубь, ты мой голубь сизокрылый,
Скажи, зачем отвергнута любовь?..
Какая любовь, если раньше о ней не было ни слова? Кто отверг? И что это за голубь? Совершенно не важно. Жизнь отвергла. Душа хочет голубя. И сизокрылый голубь (любви, свободы, нравственного оправдания) вылетает из песни, которая и становится его, голубя, телом, олицетворением…
На этой основе, возможно, и завязываются нежные отношения между песней блатной и песней традиционной, общенациональной, условно говоря (условно – поскольку блатная и сама по себе, безо всяких контаминаций, способна на общенациональную значимость). Происходит как бы братание песен, и старинные или общеупотребительные мотивы органически входят в состав нового существования.
Умер жульман, умер жульман,
Умерла надежда…
Лишь остался конь ворбный,
Сбруя золотая…
Он не остался, этот конь, он сюда прискакал – чуть ли не из былины. Своих услышал.
Ой, да приведите коня мне вороного,
Крепче держите под уздцы…
Таким древним запевом начинается рассказ о вещах, не известных прошлому («А в лагерях конвойный кричит: – Не вертухайся!..» и т. д.). И это не просто сползание одного фольклорного пласта на другой, а родство душ, единство судьбы, позволяющие обняться так далеко отодвинутым друг от друга стихиям.
А теперь на мотив «Ямщика»
Пропою про себя, чудака:
Как я дожил, мальчишка блатной,
До позорной до жизни такой.
Рано в карты я начал играть,
Рано пьянствовать и воровать
По карманам различных людей…
Эх, ямщик, не гони лошадей…
Это в жизни всё так разделено, что «воры» это одно, а «народ» – другое. В песне всё – общее, всё – своё… Когда это было?
Далеко, в земле Иркутской,
Там построен большой дом,
Он построен для народа,
Арестанты живут в нём…
Построен-то давно. Но в нашу эпоху этот дом охватил народ как будто в полном объёме. И наряду с очевидными акцентами современности в новом исполнении во всю силу зазвучала традиция, стирая исторические и социальные границы. Однако распавшаяся в истории «связь времён» восстанавливается в песне, можно заметить, несколько однобоко –■ по одной преимущественно генетической ветви:
Сижу я в камере, все в той же камере,
В которой, может быть, сидел мой дед,
И жду этапа я, этапа дальнего,
Как ждал отец его в семнадцать лет…
Преемственность поколений, единство народной жизни наново постигались в тюрьме. И здесь же встретились реки со всех концов России. В итоге, по поводу того или другого конкретного источника, мы не можем сказать со всей определённостью – блатная это мелодия или тюремная вообще, и кто ее сложил – «вор», «мужик» или «политик».
Суровый советский закон,
Он карает, как дракон…
Всех карает. Один хозяин.
Далеко там, на Севере дальнем,
Там, есть лагеря ГПУ…
Вот об этом рассказ свой печальный
Я сегодня, друзья, поведу…
…Не жди, ненаглядная мама,
Твой сын не вернётся домой,
Он схоронен на Севере дальнем,
Под высокой столетней сосной.
Вот оно, вечное древо, – «среди долины ровный» … Поют и те и другие. Специфически воровской стиль и антураж то вдруг проглянет, то угаснет, сменившись иным колоритом, и это порой осуществляется на протяжении одного и того же песенного текста, мерцающего разными гранями народного сознания.
Я сижу в одиночке
И плюю в потолочек.
Пред людьми я виновен,
Перед Богом я чист.
Предо мною – икона.
И запретная зона.
А на вышке маячит
Ненавистный чекист.
По тундре, по широкой дороге…
А на воле тем временем, в «большой зоне», протекают другие процессы – в пользу «блатной отравы» ). Она, быть может, одна еще всех как-то объединяет и связывает в деклассированном мире, где все, однако, деклассированы по-разному. Ведь с некоторых пор всеобъемлющее слово «народ» звучит у нас, как пустая бочка, будто выудили содержимое (корень), компенсируя, в утешение, мнимым величием бочки – нестерпимым героическим треском вокруг «трудовых будней» (лишённых вкуса работать) да грохотом пролетарских праздников» (с одним преимуществом – праздность). «Народ» исчез, превратившись в «массу», в кашу, выделив в отместку, как тучу пыли, – блатных… В истинно же блатном состоянии каждый сызнова сам себе господин, индивидуум, личность (можно позавидовать) – без привязанностей, без обязательств, кроме как перед бандой, без предрассудков, без целей, голый на голой земле. Люмпен, вор, хулиган возвращаются к природной, звериной жизни, но уже не в природе, а на улице, в подворотне, в толпе. И порою эта среда куда более полно, нежели безглазая масса, выражает черты русской самобытности – в разобществлённом виде, в распылённой форме. Так же как лицо у разбойника случается ярче, отчётливее (кристаллик пыли), привлекая романтиков от Горького до Байрона.
Перед нами, в увенчание, разъединённый человек – разъединённый с домом, с обществом, с прошлым, с самим собою, и в этой отделённости – злой (народ же, по идее, всегда добрый, как не бывает до конца разъединённого народа). Человек этот – Каин (Авель – еще народ): выродок. бунтовщик, отщепенец. Добрым он становится в песне, воссоединяясь с «народом», которого, возможно, и нет уже, но песня – грезит. Отсюда такой разрыв между блатной действительностью и ее же порождением, песней. В быту – ужас и грязь, в песне – очищение. Не бойтесь, когда пацаны бацают на гитаре, привалясь к забору, как взаправдашняя шпана. Не песня заражает: воздух кругом заражён. Хуже будет, когда они замолчат…
Итак, сходятся встречные потоки, с удалённых и противоположных сторон. Но если блатная песня под своё «голубиное крылышко» принимает весьма разноречивые мотивы и становится подчас по звучанию всенародной, то в собственно деревенском и городском фольклоре наблюдается своего рода «облатнение» песенной народной традиции. Воровская среда и жанр, сами по себе, в том не виновны. Все естественнее и страшнее. Это видно хотя бы по колхозным частушкам 30-ых годов, где подводятся итоги социальных переворотов, состоявших в повсеместном вырывании корней.
На кусту сидит ворона
И кричит «кара-кара».
Все колхознички подохли,
Председателю пора.
За такие песенки недолго было «по тундре, по широкой дороге» покатиться в лагерь – под любым соусом: кулака, кулацкого подголоска, бандита и даже террориста, «политика». Ну чем не террорист?
С неба звёздочка упала
Председателю в трубу.
Председатель, давай хлеба,
А то морду разобью!
Хулиган, тунеядец, отброс общества…
В давнее время (в 1913 г.) на бунтарские настроения в деревне Ленин реагировал так: «То, что называют хулиганством, есть последствие главным образом неимоверного озлобления крестьян и первоначальных форм их протеста». Позднее, лет через пять, через семь, этих протестантов либо приводили в «пролетарское сознание», либо стреляли. Тем не менее «первоначальные формы» достигли таких размеров, что уже в наши дни приходится иногда слышать мнение, будто массовая преступность у нас, воровство, хулиганство, спекуляция и даже пьянство – всё это зачатки ч. революционного протеста» и «политической оппозиции». Лично я не склонен к столь оптимальным выводам. В подобной трактовке русский человек только и делает, что устраивает оппозицию и революцию у себя на дому. Но следует признать, что процессы разрушения «основ» и «устоев», упразднение почвы, структуры зашли так далеко, что само понятие «народ» в результате как бы расщепилось и выветрилось, давая одновременно возможность искать этот «народ», где угодно, повсюду, в том числе в преступной среде (так называемой или буквально преступной). И русская частушка, и песня об этом голосят.
Понятно, частушка по жанру и складу всегда отличалась удалью, грубостью, озорством. Неслучайно революцию как национальную стихию лучше всего воспроизвёл Блок в «Двенадцати» – в образах и формах частушки. Какая, однако ж, нужна отчаянность в народе, какое злое терпение требуется, чтобы, пройдя всё, к концу 30-ых годов, плоды социализма вновь осмыслить и воспеть в «первоначальной форме»:
Всю пшеницу – за границу.
Овёс – в коперацию.
Баб – на мясозаготовку.
Девок – в облигацию.
Что же потом, после всего происшедшего, ужасаться, если эта девка, попав «в облигацию», споёт:
– Хоп-гоп, Зоя!
Кому дала стоя?
– Начальнику конвоя!
Не выходя из строя!
Это не влияние блатного фольклора на деревенскую непосредственность. Скорее – обратное: проникновение колхозной частушки в новую, блатную среду. Диффузия. Вода. Ветер. Пыль. Народ…
…Сергей Есенин, рассказывают, накануне самоубийства день-деньской тянул одну гамму – как волчий вой в ночи – песню тамбовских крестьянповстанцев, прозванных «бандитами» и раздавленных войсками. Впрочем, песня и впрямь была блатная, русская, тоскующая. Что-то вроде:
На кусту сидит ворона.
Коммунист, взводи курок!
В час полночный похоронят,
Закопают под шумок…
Опять ворона на том же кусту? Nevermore? И мы угадываем канву, интонацию, которую воспроизводил Есенин следом за тамбовцами, в развитие и продолжение песни советских беспризорных (будущих воров и бандитов):
Вот умру я, умру я,
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могилка моя.
И никто не узнает,
И никто не придёт.
Только раннею весною
Соловей пропоёт…
Ворона и соловей вместе, он прощался со стихией, его породившей, им воспетой. Это к ней он обращался под конец жизни и творчества:
Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире.
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.
(«Русь бесприютная»)
Никто в высокой лирике так полно не вместил этот смятенный народ, от мужика до хулигана, от пугачёвщины до Москвы кабацкой, как это сделал Есенин, ту стихию превзойдя в поэтической гармонии, но и выразив настолько, что остался в итоге самым нашим национальным, самым народным поэтом XX столетия. Слова «Есенин» и «Россия» рифмуются. Вряд ли это ему удалось бы без «блатной ноты».
Теперь Есенина чтут и любят все: первый партиец и ханыга, генерал и спекулянт, пожилой рабочий и юный студент-эстет. Но мало кто помнит, что «красногривый жеребёнок», бегущий за поездом («милый, милый, смешной дуралей»), в реальном, социально-историческом истолковании был для автора «наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно». Деревня и Махно «в революции нашей, – продолжает Есенин в письме 1920-го года, – страшно походят на этого жеребёнка тягательством живой силы и железной». А кто такой Махно? – удивимся и спросим советских историков. – Бандит и анархист! – отвечают. У Есенина – об этом же находим другое. Крестьянская революционная вольница, использованная государством и государством же приконченная. «Конь стальной победил коня живого». «Железный гость», «город» вышел на всероссийский степной простор. «…Идёт совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому…» (из того же письма – август 1920 г.).
В сущности, здесь уже, в есенинских стихах и поэмах, с 19-го года, предсказаны коллективизация, раскулачивание, хулиганство, лагеря – распыление жизни и личности. Не город – государство наступает на песню.
Жилист мускул у дьявольской выи,
И легка ей чугунная гать.
Ну, да что же? Ведь нам не впервые
И расшатываться, и пропадать.
Не впервые. С Пугачёва. Пропадай пропадом. Вразвалку. «И сколько много он вложил в свою походочку – все говорят, что он балтийский морячок…» Блатной? Все – блатные. «Сестры суки и братья кобели, я, как вы, у людей в загоне…» Наперекосяк. Раскачиваясь…
Это о ней, об остатках национальной России, свершавшей революцию, обманутой, преданной и ушедшей в подполье, в разбой, в кабак, писал Есенин, выражая своё «социальное нутро»:
Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.
Жалко им, что Октябрь суровый
Обманул их в своей пурге,
И уж удалью точится новый,
Крепко спрятанный нож в сапоге…
Нож в бок – как ответ на революцию и естественные ее последствия? Надежда на Смуту? На Третью Революцию – Духа? Вера в народ? Всё вместе. Но революции – не будет. Дух мятежа выродился в бандитизм. Распался и расползся. Напрасно уповал Есенин:
Нет! Таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана…
Подмяли и рассеяли. Только по лагерям, как по горам, перекатывается:
Ты, Рассея моя… Рас-сея…
Азиатская сторона!
Ой-ё-ёй, как отзовётся это эхо: «рассеянная Рассея»! Скольких обворуют, убьют! Бесшабашность, заправленная гнилью, принесёт потомство на помойке, какого еще не знала история. И оно, потомство, не станет церемониться; однако и не подумает ниспровергать режим, в котором родилось, расцвело и воспиталось, чувствуя себя, как рыба в воде, в новом мире-море. И всё же эта блатная советская семья благодарно ответит Есенину как своему пахану и первому поэту России. Ответит, перекладывая «такой красивый, красивый!» есенинский стих на жестокий, собственный опыт. Выйдет, разумеется, не так мелодично, не так умно и благородно, как нам хотелось бы – не так, как у Сергея Есенина. Куда проще и ближе к подлиннику, к жизни, если хотите. Но есенинская печать лежит на этих бастардах его национальной лирики. Перелистаем его «Письмо матери» («Ты жива еще моя старушка?..»), «Ответ» («Ну, а отцу куплю я штуки эти…»), «Письмо деду» («Но внук учёбы этой не постиг…») и другие стихотворения Есенина того же сорта и сравним с блатными песнями – с воображаемыми письмами из лагеря старухе-матери в деревню. Как и что отвечает вор своей патриархальной, крестьянской родине?
Ты пишешь, что корова околела
И не хватает в доме молока…
Ну ничего, поправим это дело:
Куплю тебе я дойного быка.
Цинично? Безжалостно? А что еще он может ей купить и прислать, загибаясь на каторге?..
С работой обстоит у нас недурно:
Встаём с утра, едва проглянет свет.
Наш Лёнька только харкает по урнам,
А я гляжу, попал он или нет.
…Ты пишешь, чтоб прислал тебе железа,
Что крышу надо заново покрыть.
Железа у нас тоже не хватило,
И дырки хлебом придётся залепить…
Если не смеяться, можно сойти с ума.
…Говоря об успехах блатной песни и широком ее бытовании, ее заманчивости и резонансе, нельзя обойти стороною противоположный факт, факт холодного отчуждения и решительного неприятия, какое она возбуждает иногда, притом у искушённого слушателя. Бывшие политзаключенные сталинской поры (58-ая статья), на собственном горьком опыте узнавшие цену блатным, всю эту воровскую поэтику подчас и на дух не выносят. Слишком живо она облекается в плоть и кровь. Еще бы! Такая встреча «интеллигенции» с «народом», такая кошмарная правда, прущая на вас без стыда и жалости. «А ну тащи кёшер! Скидай барахло! Лезь под нары! Пусть я сдохну завтра, а т ы– сегодня!» Оба сдохнут. Вопрос – кто раньше?.. В 30-ые и 40-ые годы диктатуру в зоне, мы знаем, нередко удерживал, взимая дань, как татарская орда, этот бойкий и сплочённый народец, который страшно размножился, закалился, возвысился и, опоясавшись неписанным железным «законом», основал независимое государство в государстве. Его авторитарная власть бывала грознее лагерного начальства. А начальству нравилось («классовая борьба»), да и выгодно было стращать и стравливать, руководствуясь той же теорией, по Дарвину: ты сегодня сдохни, а ты – завтра… )
Справедливо пишет Солженицын: «Уголовники всегда были для советской власти «социально близкими» …» Понятно. Что власть у нас блатная (народная), что она предпочитала блатных (народ) «социально-чуждым элементам» и, глядя сквозь пальцы, случалось, потакала ворам – понятно. Ну а сами воры, спросим, испытывали ответную преданность и царили над порабощённый толпой наподобие надзирателей, понукателей, нарядчиков?.. Нет, конечно. В гробу они видали всю эту иерархию. У них своя забота, свой кодекс – от него мёртвым холодом несёт на все наши «фраерские» понятия о морали, труде, хозяйстве. Но, как водится, воры хотели жить и, прибавим, «жить не по лжи» – в соответствии со своими представлениями о правде. Это означало, помимо прочего, – не работать. Не только по естественной лености или в силу привычки паразитировать на чужом горбу и кармане, но – из принципа, по убеждению, в знак собственного достоинства.
Глядя с крыши на картину социалистического строительства, блатной гордо пел:
Стройка Халмер-Ю – не для меня!
На ней работать я не буду дня!..
Вы слышите, как он якает, как самоутверждается там, где все тянут лямку (а он – не как все, он – человек!). «Пусть на них работает медведь» –продолжает он откровенно глумиться над начальством и отстаивать своё особое, высокое предназначение. Можно догадываться, что это не просто давалось – жить вопреки режиму, на чистой отрицаловке, опираясь на своё моральное превосходство, физическую силу, наглость, лагерный стаж и кастовую солидарность. Тут одной «социальной близостью» к власти – не обойтись…
Сколько сложено прибауток и поговорок на ту же тему («Пусть на них работает медведь!») среди честных рабочих и служащих. Типа: «Гудит. как улей, родной завод, а нам-то ………… …»; «Где бы ни работать – только б не работать!»; «Если водка мешает работе – брось работу!» и т. п. Поговорим и разойдёмся по службам, по работам. Честно и до конца в приплетённом обществе эту идею выразили и подтвердили – блатные. Одни. Выполнили обет. Завоевали, обставили. Временно, конечно. До поры, до срока. Но сделали и спели!
Если ж на работу мы пойдём,
То костры большие разожгём,
Раскидаем рукавицы,
Перебьём друг другу лица,
На костре все валенки пожгём…
«Разожгём», «пожгём» – тавтология. Неумение рифмовать. Но жечь и жечь они умеют. Последнее слово нации: огнём и мечом, саранчой – пройдём (и пожрём). Кто скажет, чем кончится эта блатная экспансия на всемирно-историческом уровне?.. Нас, однако, интересуют частности – валенки (неужто пожгут?). Сиволапые мужики, удивляемся: не пустая ли это реклама, не романтика ли это вознёсшегося в мечтах на морфии, на чифире ли афериста? Нет, практика: подтверждает «Архипелаг Гулаг» – эта великая энциклопедия лагерной России. «Блатные, – говорит Солженицын, – не только не могут «увлечься азартом труда», но труд им отвратителен и они умеют это театрально выразить. Например, попав на сельхоз командировку и вынужденные выйти за зону сгребать вику с овсом на сено, они не просто сядут отдыхать, но соберут все грабли и вилы в кучу, подожгут и у этого костра греются. (Социально-чуждый десятник! – принимай решение…)».
Всё правильно, складно (как в песне). Единственная загвоздка (вопрос): а зачем «социально чуждому» определяться в десятники и не он ли, в действительности, «социально-близок» начальству, если исходить, разумеется, не из теоретических воззрений последнего, но из самоощущения зеков разных категорий? В том-то и беда, что десятником и бригадиром на дьявольской стройке оказывался не вор, а бывало – наш брат, «фраер», «честный советский человек» ). Пусть и отверженный, «социально-чуждый» в глазах командования, сам он себя подчас таковым не считал, а лез вверх по служебной лестнице. С горькой иронией к себе и своему поколению Солженицын вспоминает, как первое время по инерции старался пристроиться в лагере на какой-нибудь руководящей работе, пользуясь армейской сноровкой. В Новом Иерусалиме, в августе 45-го, вместе с другим бывшим офицером Акимовым, его поставили сменным мастером глиняного карьера. И вот урок метящим на высокую должность:
«Как раз в эти дни из ШИзо на карьер, как на самую тяжёлую работу, стали выводить штрафную бригаду – группу блатных, перед тем едва не зарезавших начальника лагеря… Ко мне в смену их привели под конец. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди, и блаженно загорали после сырого подвала ШИзо. Я подошёл к ним в своём военном одеянии и чётко корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился и растерялся и отошёл ни с чем. В армии я бы начал с команды «Встать!» – но здесь ясно было, что если кто и встанет – то только сунуть мне нож между рёбрами. Пока я ломал голову, что мне делать (ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу), – окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование Архипелага.
Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать. Он сказал им раз, второй раз крикнул командно (может быть даже: «Встать!»), третий раз пригрозил начальником – они погнались за ним. в распаде карьера свалили и ломом отбили почки. Его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу, на этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок и сама жизнь…»
Надо пожалеть наших новичков в ложной ситуации между молотом и наковальней. Однако рисунок, набросанный Солженицыным, много сложнее в социально-психологическом смысле. Тут и расчёт с былыми порывами – плодами советской школы («с тридцатых годов жёсткая жизнь обтирала нас только в этом направлении: добиваться и пробиваться»), и покаянный самоанализ, и затаённая обида непризнанного капитана Красной Армии, и классовая неприязнь «честного гражданина» к закоренелым уголовникам, офицера – к тёмному сброду, позабывшему о дисциплине, «трудящегося» – к «буржуям», не желающим работать, разлёгшимся, как на пляже, толстыми животами под солнце (хотя после сырого подвала почему бы, в самом деле, штрафникам не позагорать?)… Но легко за этой сценой представить и встречную ненависть урки к нахальному фраеру, лагерному выскочке, дутому начальнику, продолжающему и под стражей, во «врагах народа», держать трудовую вахту – по заведённому (не для воров) социалистическому уставу. Не себя, а его, погонялку, они мыслят паразитом, присосавшимся к карьеру, и доверенным властей…
Позднее, в наше время, мне и другим политическим случалось у блатных находить поддержку, интерес, понимание и неподдельное сожаление, что доброе знакомство не состоялось в прошлом. В ответ на упрёки за старые надругательства, среди причин конфликта (хитрость чекистов, свой улов, воровское жлобство и проч.), высказывалось и нелестное о советской интеллигенции мнение: да какие же раньше, при Сталине, были политические?! – вчерашние комиссары, лизоблюды, придурки, кровососы с воли… Слышалась и застарелая каторжная вражда простолюдина к барину. Угодил барин в яму? – сквитаемся. Об этом рассказывал еще Достоевский в «Записках из Мёртвого дома» – с болью, но без тени враждебности к своим гонителям:
«На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно. …Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность (и особенно к такому народу) и заслужить его любовь».
«– Да-с, дворян они не любят… особенно политических, съесть рады: немудрено-с. Во-первых, вы и народ другой, на них не похожий, а во-вторых, они все прежде были или помещичьи, или из военного звания. Сами посудите, могут ли они вас полюбить-с?»
«…Мы принадлежали к тому же сословию, как и их бывшие господа, о которых они не могли сохранить хорошей памяти…»
Ста лет не прошло… Господа новой формации насолили и наследили, может быть, обиднее прежних. Барин-то в старые времена хотя бы не козырял рабоче-крестьянской закваской, не курил фимиам равенству и братству трудящихся, был привычнее, объяснимее и в вельможной заносчивости, и в брезгливом своём кровопийстве. Новые господа вылупились из того же «народа», что и воры; но вели себя, как «суки», лицемерно, криводушно, настырно, ненавистные вдвойне, в «социально-близкой» и вместе в «социально-чуждой» расцветке. Поди разберись, кто кому задолжал и куда клонились весы исторической немезиды. И классовая борьба, к концу 30-ых на воле, казалось бы, завершённая, с хаотической яростью заполыхала по лагерям. Как встречали там коммунистов сталинского призыва, – читаем у Солженицына: «Вот они, кто носил с важным видом портфели. Вот они, кто ездил на персональных машинах! Вот они, кто в карточное время получали из закрытых распределителей! Вот они, кто обжирались в санаториях и блудили на курортах! – а нас по закону «семь-восьмых» отправляли на 10 лет в лагеря за кочан капусты, за кукурузный початок. И с ненавистью им говорят: «Там, на воле, вы – нас, здесь будем мы – вас!»
Сейчас я живу во Франции «на уголке». Так по-домашнему, по-деревенски мы кличем ресторанчик под дряхлой вывеской «У Робера», расположенный на углу нашей милой улицы. Открыт до 2-х, до 3-х ночи. Сходняк. Толчея. Уютные французско-африканские (из Алжира что ли?) порядки. Завсегдатаи. Таинственные свои люди. Поздно вечером, слегка поддав, кто-то, случается, пляшет. Шлёпает подошвами. «Бушмен», я думаю, перебирая дошкольную пряжу: «коричневый, а не черный – бушмен». Серый. Кожа да кости. В чем душа держится? Старый маленький негр. Но чечётка – умопомрачительна. Тулуз-Лотрек. «Шоколад». Сгорбленный. Летают локти, подмётки. Джаз-банд разгорается. Очкарик танцует даму. Рядом, как самолёт в штопоре, девица на шпильках. Д’Артаньян на каблуках. Славно. Купаюсь.
На Багартъяновской открылась пивная…
Фольклор – заразителен: краденое счастье, мячиком, от одного к другому. Пасовка. Народ – везде народ. Не нарадуюсь. И сказки, и танцы, и песни, и речь – всё свободно и безымянно передаётся сигнализацией и действует безотказно, спонтанно. Не то, что у нас, писателей, будь то Чехов или Тургенев… Не есть ли, спрашиваю себя, вся наша литература придуманный прибавок к фольклору? Мы паразитируем на нем. Они танцуют, поют, а мы – пишем…
Там собиралася компания блатная,
Там были девочки – Маруся, Роза, Рая
И с ними Костя-шмаровоз.
Негр наяривает. Ноги – как шатуны у паровика. Посмотришь – и тянет туда же, в воронку. Не умею. Да и к здешнему раздолью примешиваются, перебивают, догоняя, не дают договорить – иные голоса, иные ритмы. Где он, тот, снабдивший «путёвкой в жизнь?» Где Серёга?
«Влад слышал, как они крутили его, как били сапогами, как тащили по цементу, а тот всё кричал, всё кричал:
– Суки, суки, суки! Рот я ваш мотал, на пацанах отыгрываетесь?.. Влад, Владик, Владька, не забывай, ничего не забывай! Слышишь, прошу тебя, всё помни, за всё посчитаемся, будет наше время
…И голос его канул, оборвался, стих, смятый надзирательским кляпом…» (Владимир Максимов «Прощание из ниоткуда».
А на скамейке мы не ахнем и не охнем –
Да и не друг мой, да и не я!
Хозяйка ждёт, когда мы с мухами подохнем –
Сначала друг мой, а потом и я!..
А Солженицын обижается, что блатной песне своевременно рот не заткнули: «Как-то в 46-ом году летним вечером в лагерьке на Калужской заставе блатной лёг животом на подоконник третьего этажа и сильным голосом стал петь одну блатную песню за другой… В песнях этих воспевалась «лёгкая жизнь», убийства, кражи, налёты. И не только никто из надзирателей, воспитателей, вахтеров не помешал ему – но даже окрикнуть его никому не пришло в голову. Пропаганда блатных взглядов, стало быть, вовсе не противоречила строю нашей жизни, не угрожала ему».
Угрожать-то, быть может, и не угрожала. Однако собирать и записывать блатной фольклор (по официальному параграфу – «кулацкий» почему-то запрещалось, как меня, студента, в том же 46-ом предупреждали по-тихому бывалые старики-фольклористы. Грозило сроком до 10 лет («антисоветская агитация и пропаганда»).
Пишет сыночку мать:
– Милый, хороший мой,
Помни, Россия вся –
Это Концлаг большой…
А какая там агитация?! Ни одна настоящая песня не примет этот вражий навет. Пусть таким баловством у себя большевики занимаются. Агитпроп. Партаппарат. Гулаг. Блатной же человек просто ищет выразить словами струны, мелодию, которая, однако, все равно разойдётся с текстом, так что в итоге и не поймёшь, о чем, собственно, поётся. О наркотиках? О воровстве? Пропаганда воровства и наркотиков?..
Ой, планичик, ты, планичик!
Ты, Божия травка!
Зачем меня мать родила?
Как планчик закуришь,
Всё горе забудешь
И снова пойдёшь воровать…
Поётся, между прочим, на грустный-грустный мотив. Ничего себе «горе забудешь»! Плачешь. Мечтательство. Существенности нет. Отсутствие смысла. Пустой звук один. Дымок из козьей ножки. А ведь тоже мать родила. Как всех. Зачем, спрашивается? Курить-воровать? (почему-то это связано)? Ответь, Божия травка. Опиум для народа. Разрыв-трава. Ты виновата. Ты одна во спасение нам (…«всё упование на тя»… «прежде век преднареченная Матерь»). А всё из-за неё, из-за тебя, мать – божия травка… Зачем? Ради чего? За что?.. («Моли Бога за нас…»)
Никакой другой народ, как русский, не задаётся так настойчиво и нелепо отвлечённым вопросом: зачем? Для того ведь и революцию сделали. И мировую тюрьму строим. Зачем меня мать родила? Зачем солнце светит, люди живут? Зачем – всё?.. Ответ (эхо): «вотще». А всё не унимаемся… Это как песни о свободе в застенке. О побеге. Зачем? Что за притча? Известно же: тюрьмы вору не миновать. Да и на свободе не такое уж раздолье. И все-таки, окунаясь в песню, как в собственное родовое бессмертие, повторяем с надеждой, словно возможен какой-то иной исход:
Это было весною, в зеленеющем мае,
Когда тундра проснулась…
Много вариантов. А сводятся к одному маршруту: тюрьма – свобода, свобода – тюрьма. По кругу (по тундре). Сюжет вращается, не давая освобождения, никогда не кончаясь. Но сколько перипетий вы успеете пережить, следуя по заведённой стезе, знающей лишь два направления – туда и обратно…
Достоевский писал, вспоминая о каторге: «…Вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности».
Естественно, арестант переоценивает свободу, пускай и знает наперёд (бежал, освобождался не раз и вновь, тоскуя, лез в тенета), какова она из себя в обыденной скаредной жизни. И все-таки, преувеличивая, он в ней не ошибается, но постигает, не побоюсь сказать, ее подлинную, трансцендентную стоимость, о чем другие люди и понятия не имеют. Она «свободнее настоящей свободы», свободнее, нежели мы, привыкнув к ней, как к воздуху, можем рассуждать и догадываться. Как тот же воздух становится поистине воздухом для больного туберкулёзом, а вода – водой для того, кто жаждет. В тюремном квадратике, сквозь решётку, небо, говорят, голубее: а значит оно – реальнее затрапезных небес. Может быть, только там оно и реально (и в этом значение, в частности, блатной песни)…
Попробую, братишечки, еще раз оборваться,
Выйти на волю погулять.
Встречу я там Муру – стройную фигуру,
И будем фраеров с ней штурмовать.
Скоро я надену ту майку голубую,
Скоро я надену брюки-клёш.
Две пути-дороженьки – выбирай любую…
А всё же ты, братишка, не уйдёшь!
Не уйдёт далеко. Нет выбора. Слышу: «Опять он за своё! в крытку его! в закрытку! Не успел добраться и туда же, скот, – штурмовать! Ведь снова поймают!»… Всё правильно. Поймают (на то и бежит). Но как же иначе вобрать и вообразить – свободу? Свобода – необъятна, непередаваема в сияющей реальности и, значит, ищет каких-то очень широких, могучих и точных определений. Здесь они даны. Видим два оборота, два ее образа (выбирайте любую дорогу, и все они сойдутся за проволокой, откуда и доносится голос). Величайшие координаты: разбой (в сочетании с фигурой прекрасной незнакомки еще более завлекательный) и – «голубая майка» (?!).
Кто-то, помнится, в революционном восторге призывал «штурмовать небеса». («Свобода, бля, свобода, бля, свобода…»). Не лучше ли «штурмовать фраеров»? По крайней мере – нагляднее как художественный приём. Но вот беда (выясняется): свобода – агрессивна. Всегда она стремится к чему-то недоступному и рвётся напролом, на штурм последних крепостей и запреток. В поэтическом языке это великолепно: гиперболы, агрессивная образность, всплеск эмоций… В жизни – пожары, погромы, убийства, изнасилования… Аврал, авария – и назад, в лагерь. Свобода влечёт агрессию в любой форме как собственное своё беспредельное и беспредметное продолжение. Не потому ли всех нас на свете и держат в застенке 7 До срока, до выхода из тела мы так и не узнаем, какова же свобода в полном своём объёме, в истинном виде. Лишь вспоминаем и радуемся: «Скоро я надену» и т. п. Ведь у каждого из нас, господа, хотя бы в детстве, во сне, была голубая майка. Клочок неба дивной голубизны… Оденемся и – в побег (воровать и резать)!
Рано утром проснёшься и раскроешь газету,
на первой странице – золотые слова:
Это Клим Ворошилов даровал нам свободу,
И теперь на свободе будем мы воровать…
Амнистии не будет – не бойтесь. Действительность немилосердна. Смерилось. Одно остаётся:
Квадратик неба синего, и звёздочка вдали
Сияет мне, как слабая надежда…
Это – перед расстрелом. Пора уходить с «уголка». Я знаю. Но сижу в растерянности, перебирая в уме запятые, доставшиеся в наследство по воровской цепочке. Да. Что поделаешь! Начав с запретных путей, я и кончу тем же. В противном случае незачем писать. Не интересно. Мы сойдём со сцены. – Генка Тёмин, Мишка Конухов (о, как он пел «Пацанку»!), мужественный Коля Николаенко и я меж ними, грешной тенью. Нелёгкое это дело на прощание созвать гостей, если тот уже в крытке, другой неизвестно где, а третий попал под колеса, не доехав по назначению до нового надзора. Должно быть, его скинуло с поезда: он имел обыкновение, путешествуя по стране, горланить песни с крыши вагона… А в своё время как было весело, когда мы сходились вместе!
Абрашка Терц собрал большие деньги,
Таких он денег сроду не видал,
На эти деньги он справил именинки
По тем годкам, которые он знал.
Купил он водки, водки и селёдки,
Созвал гостей и сам напился пьян,
И кто с гитарой, кто с пустой рукою…
– Не плачь! – говорю я себе. Они еще вернутся, твои друзья. Съедутся. Помнишь, как писал в письмах жене – всегда одно и то же:
… Еще прошу: сходи вечор к Егорке,
Он мне остался должен шесть рублей:
На два рубля купи ты мне махорки,
На остальное черных сухарей.
Привет из дальних лагерей,
От всех товарищей-друзей,
Целую крепко, крепко.
Твой Андрей.
Сколько их там сейчас, твоих друзей-товарищей! Всех увидишь. А не увидишь, так услышишь…
© SYNTAXIS