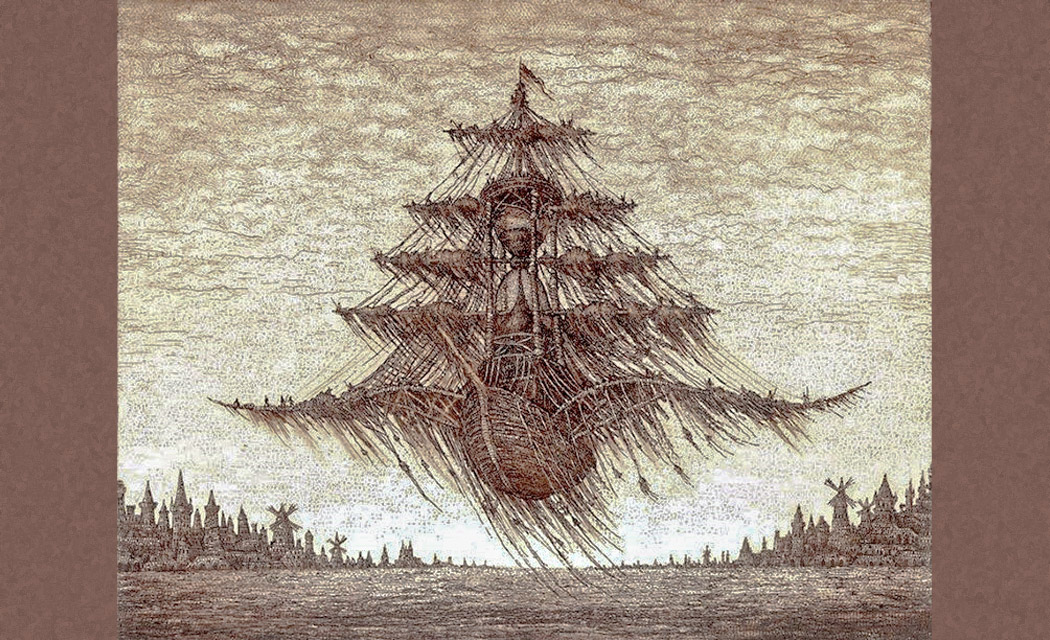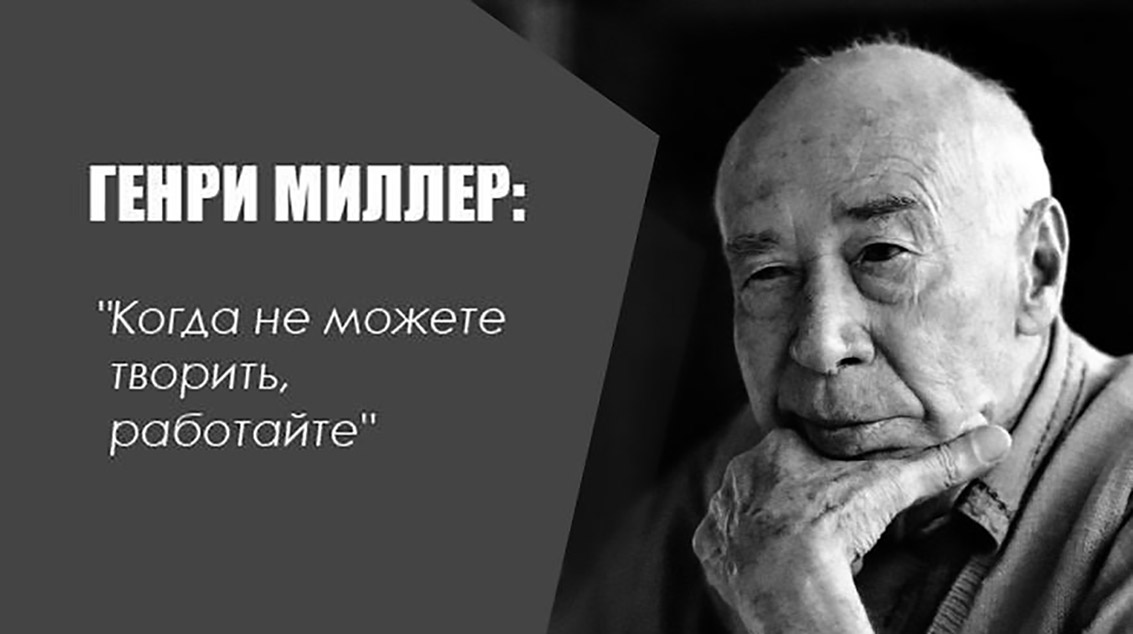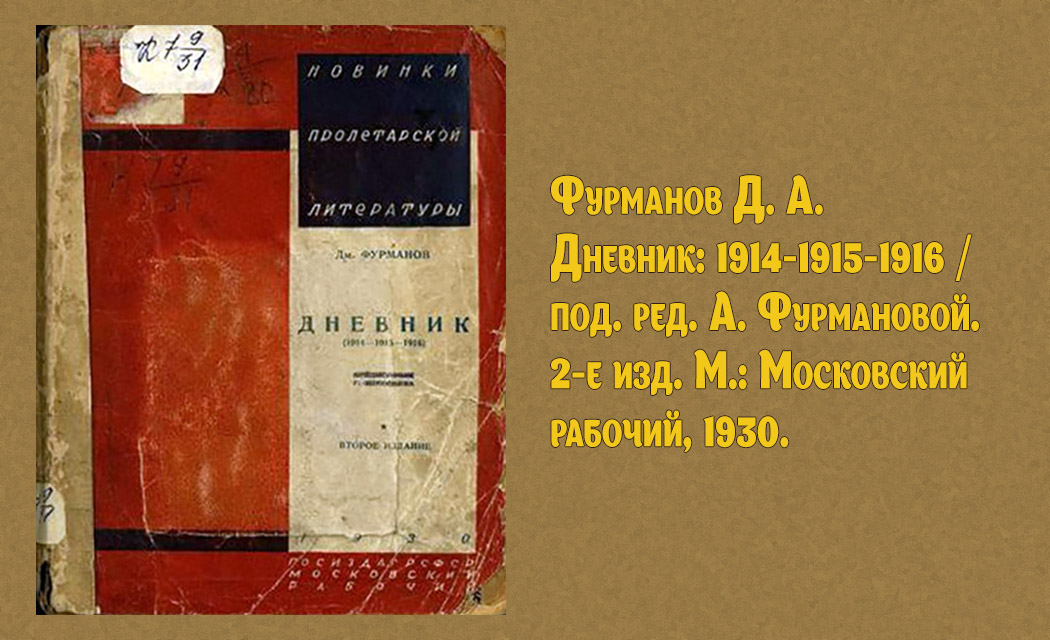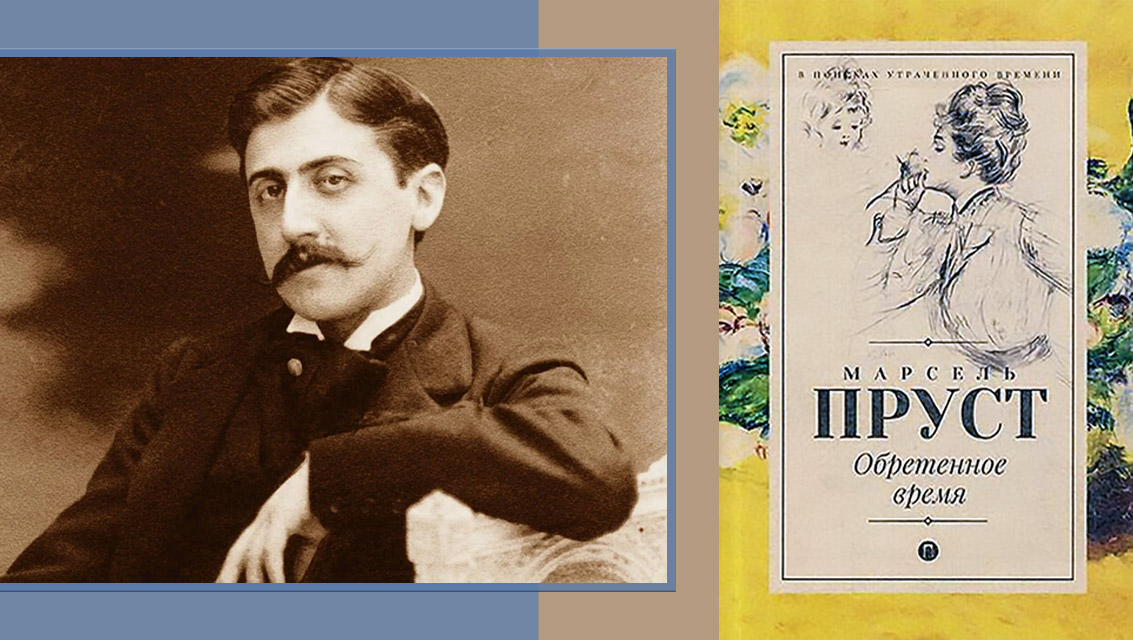Можно ли написать мифологию самого мифолога? Вероятно, да, и читатель сам увидит, чем я здесь рискую. Но, по правде говоря, мне думается, что вопрос должен стоять иначе. «Демистификация» (еще одно слово, которое уже начинает приедаться) — дело не олимпийских богов.
Р. Барт
Ироничная старушка-история распорядилась так, что великий демистификатор, развенчивателъ мифов, «частный детектив» по массовому сознанию, французский эссеист Ролан Барт (1915—1980) сам превратился в мифологему. Пройдитесь по Латинскому кварталу — вы наверняка увидите на книжных витринах выставленного напоказ Барта: это будет «Нулевая степень письма», «Удовольствие от текста», «Мифологии» либо что-нибудь еще — он очень много написал. Сами эти названия уже успели стать мифологемой, своеобразной литературоведческой фразеологией, более чем активно используемой современными эссеистами, в том числе и русскими.
Позволю себе личное признание: мифологемой Ролан Барт стал и в моем сознании, году в 89-м, когда я увидел в магазине на Кузнецком мосту первую его переводную книгу «Избранные работы. Семиотика. Поэтика». Одна из психических травм затянувшейся юности — не хватило 70 копеек, чтобы эту книгу купить. Пока ездил домой за деньгами, бартовская семиотика была распродана. Вполне достаточно для мифа. И досадно. Достанься она мне тогда, боюсь, что не стал бы сегодня рецензировать полный русский перевод «Мифологий»…
Мой идолопоклоннический пыл вовремя был остужен Вяч.Вс. Ивановым на одной из его лекций по истории семиотики в МГУ. Его спросили: «А Ролан Барт?!!» — «Барт?.. Неплохой эссеист, но ни в коем случае не серьёзный учёный…» Вполне достаточно для демифологизации. В лекциях Иванова по семиотике звучали прощальные, эпитафические нотки. Выдающийся филолог современности, много отдавший и семиотике, предельно искренне и не без горечи делился с публикой своими сомнениями об актуальности и вездесущности семиотического анализа. И шире: семиотического подхода к действительности.
Но во времена «Мифологий» (1952—1956) все было иначе, все только зарождалось. В семиологической мифологизации и демифологизации мира искрился неофитский азарт, все мыслилось поддающимся дешифровке, мир представал как книга, которую следует грамотно прочесть и растолковать; все было знаком, означающим и означаемым, все было текстом. Разумно ли забывать о тех временах? Разумно ли следовать им со старомодным подобострастием, в случае России усугубляемым еще и ее привычным, скажем мягко, книгоиздательским отставанием лет на 20 от новинок мировой культуры? Выход в России бартовских «Мифологий» есть ответ на оба вопроса; это хрестоматийная семиологическая эссеистика, таящая в себе все бесспорные достоинства и бесспорные пороки прекрасной семиотической эпохи, тем более прекрасной, что ничего интереснее, оригинальнее и изобретательнее гуманитарная наука за истекшие десятилетия не создала..
Уже одно перечисление статей из сборника может служить подсказкой читателю: «Вино и молоко», «Бифштекс и картошка», «Игрушки», «Пеномоющие средства», «Пластмасса». Их знаковая природа. Я намеренно выбрал самые «бытовые» статьи, самые бытовые реалии, как наименее, казалось бы, знаковые, — но легче всего поддающиеся семиотической беллетризации. Барт разворачивает вокруг самых обыденных вещей, очень непривычных для традиционного культуроведения, целый сюжет, целые басни — с непременной моралью в конце. Эта непривычность и восхищала первых (впрочем, не слишком требовательных) читателей «Мифологий». Надо же, писатель анализирует моющие жидкости с самых неожиданных точек зрения! «Когда в рекламном скетче из “Синема-пюблисите” говорится, что “Омо” чистит белье на всю глубину, то тем самым предполагается, что белье обладает глубиной. Нам такое никогда не приходило в голову, а вещам это придаёт особое достоинство, делает их нежными, отзывающимися на заключённую в теле каждого человека смутную тягу к объятиям и ласкам». Более смелое проникновение в «мифологическую» суть низменных вещей мы находим в статье «Бифштекс и картошка»: -Таким образом, в поедании кровавых бифштексов содержится как природное, так и нравственное. (…) Подобно вину, бифштекс является во Франции базовым элементом питания — он скорее национализирован, чем социализирован. (…) В качестве национального блюда бифштекс котируется наравне с другими патриотическими ценностями — во время войны он служит для них подкреплением, он входит в самую плоть французского бойца, составляет его неотчуждаемое достояние, которое может достаться врагу разве что вследствие измены. (…) Сочетаясь обычно с жареным картофелем, бифштекс и на него переносит свой национальный престиж — картошка ностальгична и патриотична наравне с бифштексом».
Вот такие, достойные Хармса и В. Ерофеева, пассажи с глубокомысленным видом проглатывались читателями журнала «Леттр нувель» (там печатал Барт свои статьи, составившие позже книгу «Мифологии»). Опыты Барта вводили в недоумение не одних лишь недругов из «мелкобуржуазного лагеря»; деликатный Леви-Строс советовал ему сделать более однородным свой материал… Однако призывать Барта к «однородности» было почти тем же, что призывать мюзик-холл к хоровому пению или строевому шагу. Эклектизм, политематичность «Мифологий» носила принципиальный характер. Это не значило, что я могу «семиологизировать» любое явление действительности, по, если я что-то выбрал для «Демифологизации», то я это сделаю с молниеносной (точнее, еженедельной) оперативностью.
Эта добровольная литературная подёнщина, пронизанная амбициями научного озарения, чувствуется в главах «Мифологий», часто писавшихся претенциозно и наспех. Поверхностность анализа, состоящего в основном из контраргументов воображаемому (или реальному) оппоненту. Натянутость выводов и нравоучений. Колкая агрессивность тона. Всепроникающая идеологическая, политическая ангажированность, доходящая до сочетаний «обуржуазивание игрушки»… (Т.е. кукла, умеющая мочиться, — это буржуазная кукла.). Доходящая до фраз: «Перед нами здесь характерно буржуазное превознесение гор — достаточно старый альпийский миф, возникший в XIX веке» («Синий гид»). Не говоря уже о таких козьма-прутковских зачинах, как «Мелкая буржуазия больше всего на свете уважает имманентность» или «Я уже отмечал особое пристрастие мелкой буржуазии к тавтологическим рассуждениям. ..». Читатель «Мифологий» может поставить такой эксперимент: заменить «мелкой буржуазии» (а это словосочетание повторяется у автора раз двести ) просто человеком — и ничего не изменится.
Именно эта левобережная ангажированность Барта привела «Мифологии» к полупровалу, не позволила им стать полноценной культуртрегерской классикой (а они, конечно же, были того достойны). Специфическая детская болезнь левизны в структурализме. А ведь не кто иной как Барт язвил в теоретическом. без сомнений, более серьёзном послесловии к «Мифологиям» эту самую «левизну», которая не совсем то, что «левое», которое, в свою очередь, не совсем то, что «революционное».
Словом, все на свете можно идеологизировать, идеологически обличать: стиральный порошок, одежду, кухню, лицо, тело. Жареная картошка — показатель французскости. Интересно, что думал Барт в связи с жареной картошкой о Советской России, которую он так защищал от фальсификаций мелкобуржуазной прессы?
Свою ангажированность Барт не обозначает, не декларирует. Т.е., если я изобличаю «правых», это не значит, что я «левый». Обличение ангажированности («правой», «буржуазной») ведётся у Барта средствами тоже ангажированности, но деликатно не именуемой. Это. однако, не освобождает последнюю от мифологических обличий и подмен (а мы. русский читатель, отлично знаем, что такое «левая мифология»). Левацкая стилистика Барта, впрочем, обладает известным влиянием на читателя. но эффект удовольствия от текста все же не в силах заглушить нашего недоверия к нему.
Впрочем, здесь, как это ни парадоксально, идеологическая ориентация Барта (и соответственно стилистика ) оказана ему хорошую услугу. Если бы речь шла вообще о человеческом массовом сознании, его еженедельных разоблачениях, мы бы имели повод говорить об интеллектуальной паранойе автора, маниакально буравящего социальную природу современности. А так — мелкобуржуазное тело (стриптиз), мелкобуржуазная поэзия, мелкобуржуазное детство, мелкобуржуазная кухня («Орнаментальная кулинария»), мелкобуржуазный театр, мелкобуржуазная критика, мелкобуржуазный спорт… Тенденциозность выступает априорным оправданием метода. Оправданием мысли. Оправданием стиля.
Но в том-то и дело, что и метод, и мысль, и стиль автора «Мифологий» блестящи; они способны внушить зависть даже самым въедливым оппонентам. В чем же тогда проблема? Да в том, что семиотика по природе своей заведомо требует невероятной, почти нечеловеческой беспристрастности, той самой, которую сам же Барт не без сентиментальности постулировал в финале книги: «Находя своё оправдание в политике, сам мифолог из неё исключён (…) Кроме того, мифолог исключён из числа потребителей мифа, а это значит немало. Еще полбеды, если речь идёт о какой-либо специфической публике. Но когда миф охватывает все общество в целом, то, чтобы его вычленить, приходится и отстраняться от всего общества в целом. (…) Его связь с миром — связь саркастическая».
Но должно ли нас настораживать это «отстранение»? Это тотальное стремление к олитературиванию мира, почти маниакальная его расшифровка. Когда ни одно явление или событие не остаётся равным себе. Вряд ли стоит думать, что от подобной несамотождественности явление или событие становится содержательнее. Иными словами, нечто, воспринимала как знак, становится интереснее. Ровно наоборот, семиотизировать мир — это сделать его ущербным. Последнее хорошо видно на одном примере из второй части «Мифологий»: «С развитием рекламы, массовой прессы, радио, иллюстрированных изданий, не говоря уже о множестве сохраняющихся в нашем быту’ коммуникативных ритуалов (…), создание семиологической науки становится как никогда прежде насущной задачей. Часто ли случается нам за целый день попасть в действительно ничего не значащее пространство? Очень редко, порой и ни разу. Вот я стою на берегу - моря — само по себе оно, пожалуй, и не несёт никакого сообщения. Зато сколько семиологического материала на пляже! Флаги, рекламные плакаты, указатели, таблички, одежда отдыхающих, даже их загар — все это суть сообщения».
Это море-то «не несёт никакого сообщения»?! А, ну понятно, мелкобуржуазная реалия, чересчур мистифицированная романтизмом ( вспомним горы!). Вот флаги, плакаты, загар, это да, это полномочные знаки. Хотелось бы, правда, знать, какое именно сообщение можно вычитать из загара на женских плечах?
В приведённом куске — вся ограниченность популистской семиотики. Достаточно сравнить писания Барта и Лотмана, чтобы понять разницу двух семиотических школ. Лотман умел расслышать сообщения моря.
Клод Леви-Строс соображал, что говорил, когда советовал Барту унифицировать свой материал, не вникая, как пишет во введении С. Зенкин, в собственные значения неязыковых объектов. Великий структуралист лучше, чем кто-либо предчувствовал дурную бесконечность семиотического подхода, всеохватной демифологизации, бесконечность более чем соблазнительную. Это же, в конце концов, обладает авантюрным, детективным эффектом, поэтому «Мифологии», что ни говори, так увлекательно читать. Идеологическая тенденциозность оказывается здесь как нельзя кстати, ибо является трамплином, с которого взлетает демифологизирующий азарт. Одним словом, «мифолог» берет приглянувшийся ему предмет (фотографию, брачное объявление, лицо актёра, поэзию восьмилетней девочки), замученный напластованиями современного мифа, придаёт этому предмету удобное ему (и непременно ему враждебное: идеология!) значение и начинает эту знаковую подоплёку беспощадно демифологизировать.
Я попробую сконструировать какую-нибудь гипотетическую «мифологию». Например, пицца. История этого приятного блюда неприглядна. В Италии собирали продуктовые отходы (объедки буржуазии), разрезали их на мелкие кусочки, бросали на лепёшку, заливали сыром и раздавали голодающим. Прошли годы, и пицца стала популярнейшим планетарным кушаньем. Из чего я делаю вывод о тотальной идейно-нравственной пауперизации современного мира, приравнённого через поедание пиццы к итальянским клошарам первой трети XX века.
Или еще. Лет семь назад по Москве ходила байка, что девушки слишком эмансипированного образа жизни питают особое пристрастие к сигаретам «Mo» и киви. И вот я пишу7 статью «“Mo“ и киви», где показываю, что сигареты «Mo» (несомненный фаллический символ) и фрукт киви (своей экзотичностью наводящий на размышления о ночной жизни гостиницы «Интурист») — аксессуары древнейшей профессии, ее концентрированное знаковое выражение, ее семиотика. Более того, именно эта марка сигарет и именно этот фрукт (а не апельсин или персик) заключают в себе коннотацию, добавочный смысл, расшифровываемый как означающее проституции. Страницы на три (средний объем бартовских статей) я бы это рассуждение растянул. Оно кажется высосанным из пальца? Не более, чем статья из «Мифологий — «Писательство и деторождение».
«Если верить журналу “Elle»’, недавно напечатавшему коллективную фотографию сразу семидесяти писательниц, то выходит, что женщина-литератор — прелюбопытнейший зоологический вид: она производит на свет то романы, то детей. Объявляется, например: “Жаклин Ленуар — две дочери, одни роман“, “.Марина Грей — один сын, один роман“, «Николь Дютрей — двое сыновей, четыре романа”, и т.д.».
Журнал «Elle» — неутомимо третируемое Бартом издание, наряду с «Экспрессом», «Пари-матч», «Франс-суар». Воздавая должное остроумию Барта (а его едкий, сильный юмор — охранная грамота «Мифологий»), скажем все же, что нападать на «Elle» — все равно что обижать бэбиситтершу. Как сам же Барт каялся задним числом по поводу демистифицированной восьмилетней поэтессы Мину Друэ: «А это всегда нехорошо — выступать против маленькой девочки».
Идефикс «Писательства и деторождения» до уныния банальна. Мол, журнал «Elle», приветствуя женское литературно-художественное творчество. не забывает напоминать им о материнском долге. «Итак, все к лучшему в этом лучшем из миров — мире журнала “Elle”: женщина может быть уверена, что ей, как и мужчине, открыт доступ к высшему рангу творца. Но и мужчине нечего беспокоиться: никто при этом не отнимет у него жену, и она, несмотря ни на что, останется при нем в своём природном качестве продолжательницы рода».
Ну и что? Ради чего стоило здесь ломать копья, подбирая остроты для кларацеткинских трюизмов?
Откровенно говоря, я не собирался рецензировать собственно «Мифологии». Нельзя же рецензировать вышедший 4О лет назад труд. Незачем рецензировать и его русский перевод, и общем неплохой и внятный, правда, изобилующий словами липа «онирический», «сегрегативный», «сервильный», «квантитативный», придающими должную научность переводимому тексту. Кстати, это ведь тоже мифологема. Дело даже не в том, что любое из приведённых слов можно было передать по-русски и содержание текста от этого отнюдь не пострадало бы. Дело в том. что на французском языке, языке оригинала, эти слова понятны любому среднему читателю и не несут в себе черт научного стиля. Тем более, что в «Мифологиях» Барт был журнальным публицистом и амбиций наукообразности не имел.
В мои намерения входило высказаться по поводу’ самого факта появления «Мифологий» на русском языке в 1996 году. Конечно же, эту книгу уже можно рассматривать как литературный памятник, и с этой стороны излишен ее детальный и, тем более, эмоциональный обзор. Но, может быть, не навсегда ушла в прошлое провоцирующая актуальность бартовских «Мифологий»? Скажем сразу — не навсегда. Хотя и пишет автор введения: «Жанр романических “мифологий» тоже оказался жанром одноразового применения — как. впрочем, и все жанры, в которых работал писатель Ролан Барт».
Если бы, если бы… Последователей бартовского метода гораздо больше, чем маэстро мог бы предположить. И в России их тьма. Я могу назвать как минимум двух русских роланов бартов, весьма, впрочем, популярных и активно печатающихся литературоведов: Михаил Эпштейн и Вадим Руднев (типа «семиотика лифта». «семиотика ног» и т.д.). Последний не так давно опубликовав ненавязчивый трактат о ногах па пару газетных колонок. Он обозначил целую культурно-историческую парадигму ног (что-то об их эротической семиотике; кто бы спорил!), зациклившись на Сэлинджере и Кафке и забавным образом упустив из виду едва ли не фундаментальное рассуждение на сей предмет: пассаж из «Евгения Онегина». Это как бартовское море, — у Пушкина ведь тоже присутствуют волны. (Впрочем, и автор этих строк грешит семиотическими экзерсисами).
Но шутки в сторону. И кончим за здравие. Ролан Барт был глубоко прав. В современном мире мы действительно почти не оказываемся в ничего не значащем пространстве. Мы ежеминутно простреливаемся мифами, как зайцы в аллeгoрическом лесу. И любая идеология стремится, сознательно или бессознательно. эти мифы натyрализовать, сделать их естественно присущими социуму и природе. Ведь как верны его слова из предисловия к первому изданию «Мифологий»: «Отправной точкой размышлений чаще всего служило ощущение, что я не могу вынести той “естественности», в которую пресса, искусство и здравый смысл постоянно облачают реальность — меж тем как реальность эта, хоть и образует нашу жизненную среду, тем не менее, сугубо исторична; одним словом, мне нестерпимо было глядеть, как в изложении наших текущих событий дня сплошь и рядом смешиваются Природа и История, и за этой пышной выставкой само собой разумеющегося мне хотелось вскрыть тот идеологический обман, который, по моему мнению, в ней таился».
Разумеется, чем более бурно и ново движется то или иное общество. тем более интенсивно, как апрельский лес почками, оно обрастает мифологемами. Я не собирался, по примеру провинциальных школьных учителей, «подкреплять выученное примерами из окружающей действительности», но почему бы и нет? Что, сегодняшняя Россия менее интересный предмет для «мифолога», чем Франция 50-х годов или сегодняшняя Франция?
Ведь сколько захватывающих тем! Семиотика бассейна «Москва» (во всей своей историко-архитектурной ретроспективе и перспективе). Дискурс посткоммунистической пропаганды. Знаковая природа российской рекламы. Поэтика предвыборной кампании. Социолингвистические мутации переел ройки. «Новая России» как морфологическое согласование. Бандитская жестикуляция как арготический феномен (именуемый в соответствующих кругах «распальцовкой»). Российская поп-музыка как замещение подростковой невостребованности. И так —до дурной бесконечности. Например, тот, кто помнит ежевечерние астрологические прогнозы по российскому телевидению («домохозяйкам, родившимся в марте, не советуем завтра варить макароны»), не без восторга прочтёт бардовскую «Астрологию»: «Астрологическое человечество спокойно обходится месячной зарплатой — зарплата как зарплата, и коль скоро она позволяет “жить», то о ней никогда и не говорят. Подобную “жизнь” звезды не столько предсказывают, сколько просто описывают: будущее тут редко сулит какой- либо риск (…) Если служатся какие- то неудачи, они будут малозначительны, если кто-то ходит мрачный, то благодаря вашей бодрости духа его лицо просветлеет, если с кем- то скучно общаться, то это окажется зато полезным (…) Звезды высоконравственны, они склоняются перед силой добродетели: чтобы одолеть осторожно предвещаемые ошибки и просчёты, непременно нужны такие качества, как мужество, терпение, добрый нрав».
Современники недавней российской войны с чувством аристотелевского узнавания прочтут статью африканская грамматика». Барт здесь скрестил своеобразный словарик наиболее мифологизированной («косметической») лексики французской прессы — времён французско-марокканской войны.
«БАНДА (людей, стоящих вне закона, мятежников или уголовников). — Образцовый пример аксиоматического языка. Выбор уничижительного слова служит здесь именно для того, чтобы не признавать фактическое состояние войны, а тем самым и возможность диалога. (…)
МИССИЯ. — …В него (в это слово. — М.Ж.) можно вкладывать все что угодно: школы, электрификацию, кока-колу, полицейские облавы, прочёсывание населённых пунктов, смертные приговоры, концентрационные лагеря, свободу, цивилизацию и вообще любое французское “присутствие”.
Возможно, я воспользовался запрещёнными, тоже ангажированными, приёмами, через эту цитату подчёркивая актуальность Барта. Ничего, его актуальность далеко превосходит африканскую грамматику. Он умел мыслить социальность в терминах грамматики. — а это лучшее, что можно сказать о филологе. Это умение мы могли бы с величайшей пользой для себя перенять. Ведь, если угодно, семиотика — это беллетризованная грамматика, а грамматика — это просвещение. А Ролан Барт (образно и кощунственно выражаясь) отдал жизнь ради просвещения: он погиб в дорожном происшествии рядом с Сорбонной.
1996
Публикация Анны Пустынцевой