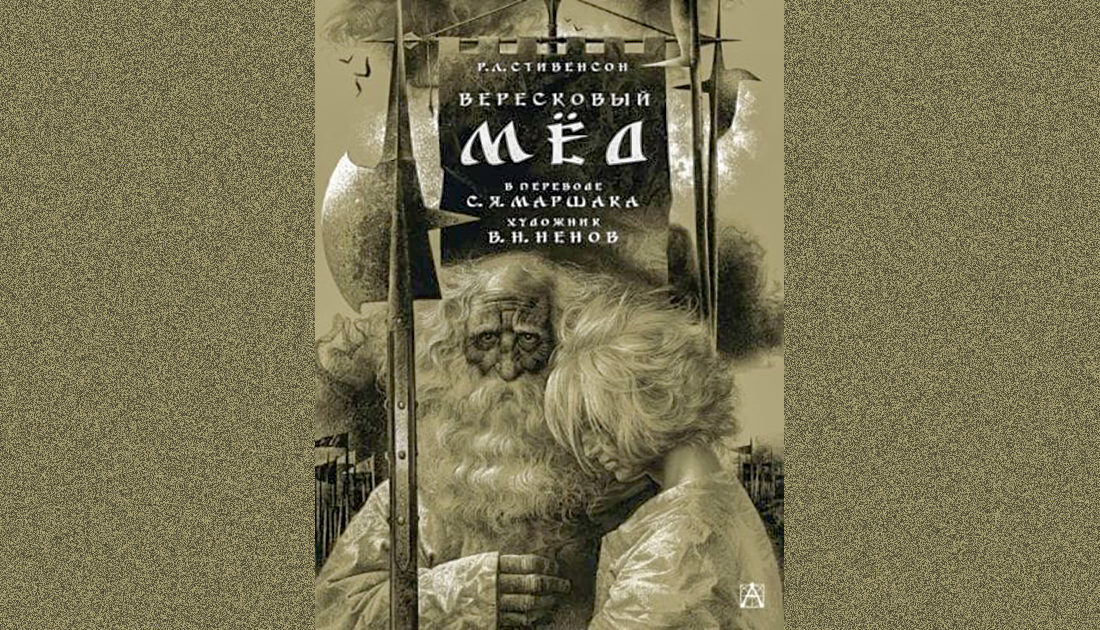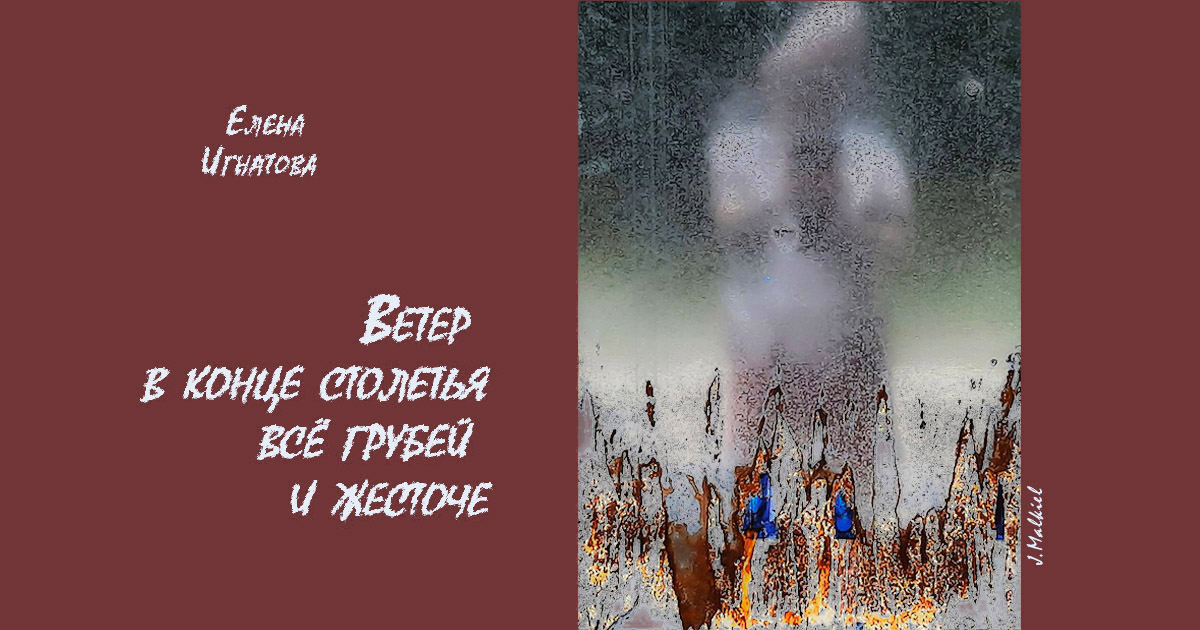В слова не облечь...
* * *
Гроза закончилась, и нам от грозы
осталось мокрое пятно, а в окне —
двоится взмах её тяжёлой косы
в двух сантиметрах от пятнистых ранет,
распахнут света балахон — капюшон
всё норовит сползти на летний витраж,
орех маньчжурский одинок и смешон —
так спину выпрямил, как будто не наш,
как будто плыл сюда из дальних краёв,
снил по-китайски о волшебном, а тут —
всего лишь речка с молоком до краёв,
да в речке рыбы, аки птицы, поют,
всего лишь в травах шелестит пацанва,
цок за губами на прозрачном замке,
покамест платья, разметав рукава,
нагих купальщиц отпускают к реке.
О, если сила в этом фокусе есть,
то — где-то рядом, на открытых лугах,
где сивый гений этих двойственных мест
ждёт-не дождётся своего дурака,
где половина бакалейной стены
ложится под — в закатной ржавчине — нож,
и возвращаются домой пацаны
с кульками, полными лягушечьих кож,
где мы растём, не вырастая, где я,
точнее, дочь моя по воду идёт,
под нею корни расплетает земля
и безвозвратно уплывает вперёд,
и всё, что видится, в слова не облечь,
не оценить, не положить на весы,
а можно только покориться и лечь —
под речь, под взмах её тяжёлой косы.
МЁРТВЫЙ ЧАС
Через больничный коридор,
в крахмальной лодке через море
отправишься — и по нему
пройдёшь на свет, минуя тьму;
а нынче взгляду твоему
доступен кованый забор
да изолированный дворик.
Как зверь, бегущий на ловца,
в конце концов, заплатит кровью,
так вглядываешься во мрак;
«жизнь это текст», — писал мастак
писать, и если это так,
то начинай читать с конца,
с пространнейшего послесловия.
Здесь время отменить — труда
тебе не стоит, не счастливый
часов не наблюдает, а —
лежачий; с ближнего поста
следит за стрелкой медсестра,
чтоб ровно в полночь без следа
отсюда выбыть торопливо —
в другую, кукольную жизнь,
в её хрустальные заторы,
вплавь огибающие нас;
больница — остров про запас,
где тихий нескончаем час,
и тот, кто в мёртвый час лежит,
не станет спрашивать: «Который?..»
Микрорайон трубит в окно,
заката поднимая прапор,
игрушечный закрыт завод,
и пусть у проходных ворот
тебя никто уже не ждёт, —
как хорошо, что ты давно
обучен языку метафор!
Из проруби тугого льна,
ленивой, книжной, неподвижной,
ещё хватаешься крылом —
за край, за нянечку с ведром,
за мысль нехитрую о том,
что час — подробен, смерть — длинна,
и только жизнь — скоропостижна.
* * *
Говорят, она — судьба, чёрта с два,
да из тех, что не приемлет подачки,
с виду — кошка, и её голова —
будто кляп во рту чертовки-скрипачки.
Это, ясен пень, намёк, экивок,
на сплошное узнавание ставка, —
вот и ловишься, карась, на крючок,
ибо ей реминисценций не жалко.
Тот, кто хочет на божественном петь,
на небесном лопотать златоусто,
жить осмелится не сметь, ну а смерть —
это чистое, по сути, искусство.
Запереть её — и мы спасены,
пусть ей клином выйдут клёны в окошке,
а глазищам зеленее волны
пусть завидуют соседские кошки.
Будет в блюдце дребезжать молоко,
будет мурка ворожить, крибли-крабли.
Говорят, что падать в небо легко,
только небо нам откроется вряд ли.
Тень метлы мелькнёт у чёрных ворот,
новоприбывших облапают ели,
но никто из нас, живцов, не умрёт,
мы с пелёнок умирать не умели.
Тот, кто вырос от земли на вершок,
там — избыточен, а здесь — неуместен.
Мы останемся, и этот стишок —
нарочитое топтанье на месте.
ТРЕТИЙ
Подумаешь, цаца, уродец,
как весь его тошный народец,
с чужого плеча пальтецо,
кивок, шепотливое «здрасьте»,
отчасти — фуфыря, отчасти —
безликое третье лицо.
Нам слышалось «оле лукойе»,
а хлюпику — «горе такое»,
всю жизнь загадав наперёд,
смотрел, как волнуется море,
и там, где играющих двое,
он лишним стоял у ворот.
О, мертвые детские тайны!
Бывало, на шорох случайный
воскреснешь, почувствовав дрожь,
но вспомнишь, что там, среди ночи,
есть тот, кому жить одиноче,
и снова счастливым умрёшь.
Слыл чуркой, татарином, турком,
евреем и просто придурком, —
богатый словарный запас!
Куда безъязыкому с нами
тягаться, — он молча глазами
навылет простреливал нас.
Лишь помню, соседка старуха,
само средоточие слуха,
но тише садовой травы,
когда на беднягу ватага
дворовой неслась пацанвы,
шептала: «во имя Святаго...» —
а дальше не слышно, увы.