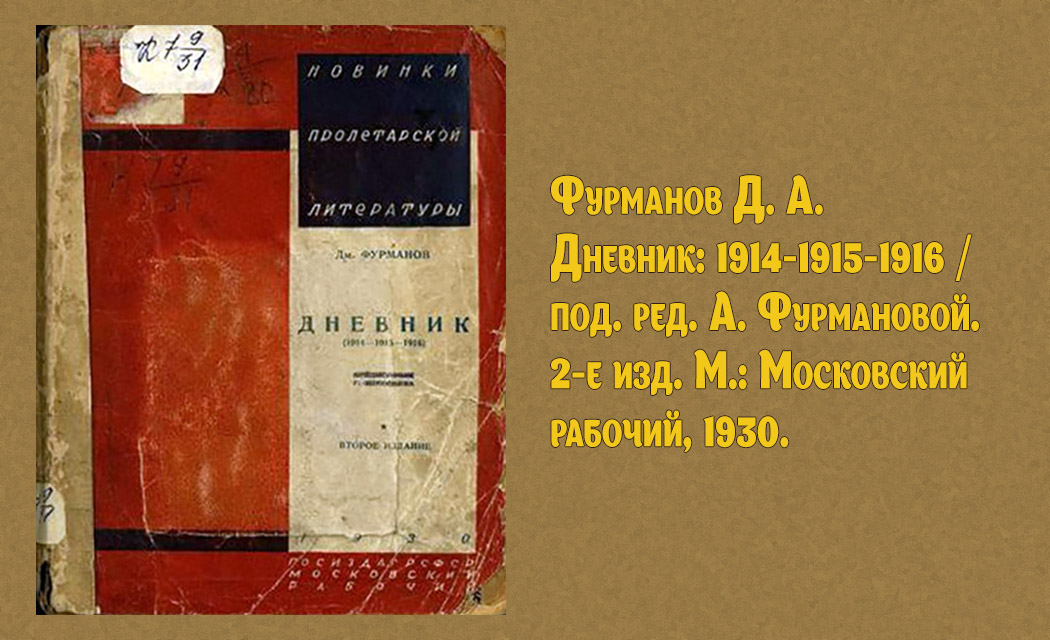«Он Ленина на *** послал!»
Неизвестное уголовное дело Юрия Домбровского
Автор романов о 1937-м, по праву занимающий место среди великих писателей-лагерников — Солженицына и Шаламова, Юрий Домбровский до сих пор остается самым малоизученным и малопрочитанным среди них. Совсем недавно были открыты ранее неизвестные материалы третьего уголовного дела 1939 года, включая редкое тюремное фото. Публикация из готовящейся первой книги биографии.
Открыв пухлые папки с уголовными делами, найденные в архиве Департамента полиции города Алматы, словно продолжаешь читать этот знаменитый роман. Домбровский автобиографичен, он документален, ему не пришлось ничего выдумывать, естественно, с поправкой на диффузию реальности и вымысла: «Смотрите, граждане, и оценивайте. Я даже фамилии оставил подлинными», — писал он в послесловии к «Факультету ненужных вещей», говоря о следователях, прокурорах и стукачах, имея в виду и других персонажей с реальными прототипами. Домбровский хотел, чтобы его книга была рассмотрена как материал истории, вот и послесловие называется «К историку». Вернее, две книги, ведь роман был написан в двух томах, просто он не успел объединить их под одним заглавием, а потому эти же слова относятся и к первому тому — к «Хранителю древностей».
Третьего ареста он ждал в 1937 году — тогда ждали все. Однако его арестовали уже после «Ежовщины» — в 1939-м, и этим объясняется сравнительная мягкость происходившего. Славные органы пребывали в шоке после масштабных внутренних чисток, пришел Берия, а потому Домбровского не затоптали сапогами, хотя орали и угрожали так же. Шок был настолько силен, что чекисты стрелялись в своих кабинетах, не дожидаясь, пока за ними приедет их же собственный «воронок». Тем не менее автор допускает эту важную перестановку в романе — все допросы и пытки там происходят именно в 1937-м. Но это все-таки не совсем перестановка и не просто год-символ. Угроза ареста тогда была самая настоящая, причем получить ссылку или лагерь значило бы еще мягко отделаться.
В «Жалобе Генеральному Прокурору СССР», написанной много лет спустя, уже после того, как Домбровского посадят в четвертый раз (подшита к делу 1949 года), он начнет рассказ о подоплеке третьего ареста с того, как в 1936-м его судили за организацию незаконных платных курсов по подготовке в вузы и техникумы:
«…и Суд меня оправдал; но МГБ Казахстана эту свою неудачу (задета честь мундира!) уже не могло позабыть. Я переехал в Москву, но за мной вдогонку следует докладная записка Алма-Атинского Обл. Отдела НКВД <…> арест по настоянию Алма-Атинских органов ничем нельзя было бы объяснить, если бы не то, что еще в 1936 г., тотчас после Суда и моего оправдания, я не стал объектом шантажа <…> преподаватель русского языка в Школе для взрослых, где я был директором, предложил мне стать секретным сотрудником НКВД Казахстана. Это предложение было мне преподнесено с такой угрозой: «Имей в виду — это для тебя жизненно важно — сейчас ты случайно сорвался, но они тебя не оставили, ты висишь на крючке. Иного выхода у тебя нет»».
В романе момент с шантажом, судя по всему, отразился в сюжетной линии с персонажем Корниловым, у которого с автором много общего и который один из очевидных его альтер эго — тоже ученый и археолог, тоже выслан из Москвы в Алма-Ату, тоже устроился работать в Центральный музей. Только там под давлением НКВД Корнилов становится невольным осведомителем по кличке Овод.
Это еще не вся подоплека. Домбровский умалчивает о том, что в конце 1936 года, спустя всего несколько месяцев после суда и после отказа сотрудничать с «госужасом», репрессии коснулись семьи его первой жены Галины Жиляевой-Шуевой, с которой он жил вместе в квартире ее родителей. 1937-й показал себя еще накануне — началось громкое групповое дело о троцкистах на Турксибе (Туркестано-Сибирская железная дорога). Прямо перед Новым годом забирают тестя, он работал старшим инженером паровозной службы. Его обвинят как троцкиста-диверсанта и приговорят к расстрелу. Вслед за тестем арестовали тещу — якобы знала, но скрывала.
Не было тогда более страшных слов, чем Троцкий и троцкизм, а Алма-Ата как известное место ссылки опального наркома перед его выдворением из страны, теперь должна была окончательно очиститься от его невидимых следов. Лейбу находили даже на спичечных коробках — его профиль с бородкой якобы можно было увидеть в нарисованном на этикетке пламени. И понятно, что ждало директора такой спичечной фабрики. Один историк сказал, что троцкисты для Сталина были, как евреи для Гитлера, и Домбровский понимал, чем это может кончиться, несмотря на то, что судьба тестя так и осталась ему неизвестной, брак его распался, а семья узнает о расстреле только на заре «оттепели».
Но Домбровского в 1937 году не тронули, хотя литературоведы в погонах уже давно плели для него цепь из доносов — копилась, набухала его папочка. Доносы эти крайне увлекательны. Они охватывают период с 19 августа 1934 года — он уже был в Алма-Ате, и оставался еще год высылки — и по 25 мая 1939-го — до третьего ареста считанные месяцы.
Открываем дело № 0072 (№ 03504 — архивный), самое важное дело, потому что именно оно и посадка 1939 года послужили основной для большого романа. Читаем оперативные клички осведомителей: Цицикарец, Лермонтов, Иванов, Нероид, Рикминский, Розов, Гарин, Рахманов, Шалом, Искра. Вот один из доносов, появившихся как раз в год ареста, где источник ведет себя как явный провокатор, подталкивая писателя к опасным разговорам:
«Осведомит.
«Рикминский»
7/1−1939г.
Проходя по парку Федерации мимо витрин, где выставлены портреты тов. СТАЛИНА и героев Арктики: т. т. ПАПАНИНА, КРЕНКЕЛЯ, ШИРШОВА и ФЕДОРОВА, ДОМБРОВСКИЙ, увидев портрет тов. СТАЛИНА, спросил у источника: «А этот-то герой, как сюда попал».
Источник завел разговор о расстрелянных и арестованных органами НКВД троцкистах и шпионах. На вопрос источника — правильно-ли поступила партия в этом вопросе, ДОМБРОВСКИЙ ответил: «Партия и правительство поступили очень несправедливо, пересажав столько людей; главных, как БУХАРИНА, можно было-бы посадить, что касается остальных, то это несправедливо».
Затем ДОМБРОВСКИЙ стал расспрашивать источника о том, как можно попасть в Дом Правительства, сколько там часовых и есть-ли постовой в Верхнем Совете».
Еще одна ниточка к троцкизму (и шпионажу!), помимо тестя, ведь речь о процессе, известном как «Третий московский процесс» или «Процесс «право-троцкистского блока»», в который помимо Бухарина угодили такие видные деятели и члены партии как Рыков или бывший главный чекист Ягода.
Так почему же Домбровского не арестовали тогда, когда с ним еще можно было сотворить все что угодно? Берегли для другого масштабного процесса, скажем, о троцкистах-шпионах-литераторах?
Но пока Домбровский на свободе, ему 30 лет, он успешный молодой писатель, по крайне мере, в Казахстане его литературная судьба начала складываться: был издан первый роман «Державин», послуживший билетом в Союз писателей, печатают стихи, статьи и рецензии. Домбровский встречается с читателями и выступает вместе с известными писателями на публичных чтениях, на которых обсуждают его творчество. Вдобавок есть постоянная работа — в Центральном музее, который он опишет в романе. Здесь же будет работать и главный герой — тридцатилетний историк Георгий Зыбин, а также уже упоминавшийся Корнилов, ссыльный археолог из Москвы; между этими двумя он разделит свою биографию.
Домбровскому хватает денег, чтобы снимать комнату поблизости от музея, он живет вполне обустроенно и даже уютно. Появилась у него и новая любовь — имя этой женщины пока остается неизвестным, однако в той же «Жалобе Прокурору» он вспоминает о ней, указывая время их отношений, которые будут прерваны арестом (1937−1939 годы). Молодой писатель строит планы на будущее и, возможно, даже обдумывает с возлюбленной переезд и возвращение в Москву. Или побег?
На самом деле, обстановка душила, нервы были все время на пределе. Начнем с того, что он не приживался в музее. В романе мало что говорится о склоках и о недовольстве его работой «хранителем», не считая нескольких эпизодов, а ведь претензии начались вскоре после его прихода в музей, в конце 1938 года. Представления об этом дают частично уцелевшие и приобщенные к следственному делу протоколы профсоюзных заседаний.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
общего собрания членов Союза Музея гор. Алма-Ата.
от 29 ноября 1938 года.
ПРЕНИЯ: 1. Тов. КУДРЯВЦЕВ — я хочу сказать о безобразном отношении ДОМБРОВСКОГО с книгами, т. е. социалистическому имуществу. Он набирает очень много книг в библиотеке и относится к ним очень небрежно рвет их. Я прошу вынести решение ремонт книг, которые он порвал отнести за его счет…
6. ЧУРИЕВ — здесь больше разговаривали о БРЕУСОВОЙ, Но говорить прежде всего нужно о ДОМБРОВСКОМ. Он больше всех пьянствует, он безобразно относится к социалистической собственности, он потрепал «Тускииз» музея. ДОМБРОВСКИЙ разлагает наш коллектив, он втягивает в пьянку наших технических работников.
7. СМИРНОВА — Я сознательно не касалась вопроса о ДОМБРОВСКОМ. Надо выяснить вопрос о том, что из себя представляет научный работник ДОМБРОВСКИЙ. ПРОНИН (директор музея. — И. Д.) сказал, что ДОМБРОВСКИЙ крупный работник, что мы его не понимаем. ПРОНИН говорит, что ДОМБРОВСКИЙ организовал комнату нумизматики, а на самом деле она не организована и до сих пор. Он уходит и приходит на работу когда ему вздумается. Никто не знает, где он бывает и что он делает.
12. 12. ЧУРИЕВ — Я о ДОМБРОВСКОМ был прежде такого же мнения, как и ПРОНИН, но сегодня я другого мнения. ДОМБРОВСКИЙ начал лгать с археологическими раскопками. Он создал очень много в музее лишних расходов. Он действует разлагающе на коллектив. Он окружает себя нездоровыми людьми».
Ничего не пишет в романе Домбровский и об эпилепсии, из-за которой он редко появлялся на работе, что также вызывало недовольство коллег.
Весной 1939 года в музее снова неприятности — Домбровскому сначала делают выговор, а затем увольняют за прогул. Посмотрим приказ об увольнении, подшитый к делу:
«9 апреля 1939 года
Приказ по Центральному музею Казахстана г. Алма-Ата № 26
Научного работника товарища Домбровского за допущенный прогул 7 апреля, обман о договоренности с товарищем Дублицким о поездке 7 апреля на место предполагаемых раскопок и игнорирование моего приказа об отметке при уходе в рабочее время, товарища Домбровского уволить с работы. Бухгалтерии произвести расчет.
Директор музея Пронин»
Спустя несколько дней, правда, его восстановят, и он снова будет клеить горшки и писать карточки. Все-таки директор, ставший еще одним прототипом, — «высокий, крепкий мужчина лет сорока пяти-пятидесяти, в военной гимнастерке с расстегнутым воротом», — и в жизни, как и в романе, относился к писателю по-доброму и играл роль буфера между ним и коллективом.
Понятно, что все эти события никак не способствовали выздоровлению — эпилепсия усиливается, и летом Домбровский добивается длительного отпуска, в заявлении указав, что собирается поехать в один из домов отдыха или курортов Казахстана. Вместо этого, однако, едет в Москву, откуда был выслан еще студентом в 1932 году. Здесь жила его семья — мать, сестра, отчим и т. д.
О причинах поездки потом он будет писать по-разному. Например, в заявлении о восстановлении в Союзе писателей в 1944 году, сразу после возвращения из лагеря, напишет, что был вызван для переговоров с издательством. А спустя десять лет, накануне освобождения из другого лагеря, в той самой «Жалобе Прокурору» скажет, что переехал. Что правда?
А правда то, что Алма-Ата не собиралась его отпускать. 27 августа 1939 года за ним пришли по старому московскому адресу, только Мертвый переулок теперь назывался переулком Николая Островского, который, кстати, жил и писал «Как закалялась сталь» в соседнем с Домбровскими доме. Постановление на арест будет подписано довольно высоким начальством: комиссаром госбезопасности 3-го ранга Б. Кобуловым, человеком из ближайшего окружения Берии, впоследствии вместе с ним расстрелянным.
Третий арест точь-в-точь походил на первый, будто повторяющийся кошмар, — снова квартира родителей, поздний вечер, стук в дверь, тот же понятой — дворник, обыск, глаза матери. Но в этот раз следствие будет проходить в Казахстане, Домбровского сажают в «столыпина» (вагон для зэков) и этапируют в Алма-Ату. Наконец он встретится с еще одним героем романа — следователем Хрипушиным. Читаем в уголовном деле: младший лейтенант Хрипушин: «Был этот Хрипушин статным мужчиной лет сорока, с тупой военной выправкой, с большим плоским лбом и мощными, похожими на рога жука-оленя бровями» («Факультет…»).
10 октября предъявили обвинения по статье 58 пункт 10 — это была «специальная» статья для интеллигентов. Как сегодня, например, сажают за лайки, репосты и посты в Фейсбуке, а тогда были анекдоты. Все четыре ареста Домбровского по этой статье — антисоветская агитация.
Так в чем же конкретно заключались его преступления? Быть может, это анекдотическая история с одним из доносов? Сексот угрожает писателю своими связями с НКВД, если тот не заставит жениться на нем их общую знакомую, которая, возможно, сама на тот момент влюблена в Домбровского и поэтому приходит к нему за советом, выходить ей за сексота или нет.
Из «Жалобы Прокурору»:
«…Ко мне подослали артиста Розова (по просьбе родственников вместо реального имени агентурная кличка. — И. Д.), который был достаточно откровенен для того, чтобы без труда уяснить его намерения и намерения его вдохновителей [в НКВД].
Я был знаком с некоей В. Л. Вязовской, женой моего умершего товарища, редактора Казахского Отдела ТАСС. О моей дружбе с Вязовской знал Розов.
После смерти Вязовского, Розов сделал предложение его вдове. Розов был известен как пьяница, все пропивавший, безвольный, хныкающий человек. Вязовская сперва не дала ему ответа, сказав, что посоветуется со мной; на ее вопрос я только пожал плечами; Вязовская отказала Розову.
Розов, вечно пьяный, откровенно говоривший, что он «завербованный» <…> что от него вымогают сведения, — «А что я на тебя могу дать?», — решил использовать свои связи с органами НКВД и, явившись ко мне, стал угрожать: «Я знаю: это — твое влияние, не вставай мне на пути; я просто посажу тебя. Помни, что на тебе аркан; одного моего слова достаточно!»
Выгнанный мною, он ночью опять пришел, еще более пьяный, и предлагал мне кончить дело миром (?) — «Имей в виду, мне доверяют играть Ленина; я буду народным!»
Я был очень зол и крикнул: «Иди на х…, кого бы ты не играл!»
Розов закричал на всю квартиру: «Он Ленина на х… послал!»».
А так выглядел донос Розова — сопоставим с рассказом Домбровского:
«Осведомит.
«РОЗОВ» —
7/1−1939г.
ДОМБРОВСКИЙ Ю. О. — писатель и научный работник Исторического музея. В разговоре с ним о моей работе над ролью В. И. ЛЕНИНА в пьесе «Человек с ружьем», ДОМБРОВСКИЙ выразился: «Черт с ним, с вашим ЛЕНИНЫМ». Ведет себя антисоветски, зачастую проявляет антисемитизм, говоря: «Бей жидов, спасай Россию»».
Артист и исполнитель роли вождя революции в известной пьесе Н. Погодина почему-то постеснялся повторить бранное словечко, и поэтому в доносе Домбровский посылает Ленина вполне интеллигентно — «к черту».
Надо сказать и про жидов, так как писателю в уголовных делах постоянно ставят в вину этот самый антисемитизм. Автор биографической повести о Домбровском Николай Кузьмин, знавший его в годы своей работы в казахстанском журнале «Простор», объясняет это так: «Просто проскакивала в его невоздержанном лексиконе эта старорежимная чисто русская терминология, которой, кстати, придерживались Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Чехов, Толстой и Достоевский. Это в наши дни коротенькой хлесткое словечко стало восприниматься в бранном, оскорбляющем достоинство смысле, в те же времена оно никак не задевало ничьего уха, в том числе и еврейского».
И все-таки посадили Домбровского вовсе не из-за Ленина.
Первое время на допросах будет неясность, в чем конкретно его обвиняют, пока наконец Хрипушин не спросит об экскурсии:
«Протокол допроса от 11 октября 1939 года
Вопрос: Следствием установлено, что вы, будучи экскурсоводом группы антирелигиозных агитаторов, при объяснении этой группы (так в тексте. — И. Д.) проводили «Расовую теорию» о происхождении человека?
Ответ: Нет, я это отрицаю».
1939 год — время надвигающейся немецкой угрозы, тем не менее ни в «Хранителя…», ни в «Факультет…» история с расовой теорией не попала, впрочем, как и экскурсия. Расовая теория отразится в книге «Обезьяна приходит за своим черепом», сюжет которой — история вокруг антрополога, вступившего в конфликт с нацистами в связи со своими открытиями в области эволюции человека и обезьяны. Работа над этим антифашистским романом начнется в сороковые.
Зато в романы о 1937-м попала Массовичка — заведующая массовым отделом музея или ответственная за идеологическую работу. Эту 41-летнюю женщину (исходя из даты рождения в уголовном деле писателя) Домбровский описывает как женщину с лицом-клизмой: «Была она толстая, с одутловатым лицом, вытянутым настолько, что мне все время хотелось зажать его в ладонь, как клизму, да и подавить» («Хранитель…»).
Именно Массовичка еще в музее первой забила тревогу по поводу расовой теории и повторила это же на допросе. Кстати, ее имя в романе тоже настоящее, автор заменил (забыл?) только отчество.
«19 октября 1939 года
Протокол допроса Смирновой Зои Александровны
В октябре месяце 1938 года в музей пришла группа слушателей антирелигиозных курсов. Я попросила научного работника музея Домбровского [провести экскурсию] <…> Домбровский также обошел молчанием в третичном периоде появление человека. Когда он дошел до того, что прямо показывает на первобытного человека и говорит: «Не думайте, что это и мы с вами родные братья, это вот родные Гималайцам». Все он это подводил к «Рассовой теории». Притом на протяжении всего объяснения экскурсантам выхолащивал учение Энгельса о происхождении человека, что человека создал труд».
И вот интересный момент — слова Массовички из допроса — за исключением расовой теории — повторяются в доносе агента по кличке Искра. Этот донос от 25 мая 1939 года последний в копилке прегрешений. Могла ли Массовичка быть этой Искрой?
«Источник
«ИСКРА»
25/V-39г.
На вопрос источника ДОМБРОВСКОМУ, почему не хотите назвать общего предка человека — человекообразную обезьяну, как это говорит ЭНГЕЛЬС. ДОМБРОВСКИЙ ответил, что человек произошел не от обезьяны, а от предка, который еще не выяснен. «Мало ли что говорит ЭНГЕЛЬС, он жил в одну эпоху, а мы в другую и его учение устарело».
Дальше происходит самое страшное, страшнее расовой теории и неверия в Энгельса, — выскакивает долгожданный троцкизм: «Расскажите, где и когда вы познакомились с Медведевым Степаном Григорьевичем?». Медведев был главным редактором газеты «Турксиб», относящейся к той самой железной дороге, на которой работал и тесть Домбровского.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
Обвиняемого МЕДВЕДЕВА Степана Григорьевича
от 9/VI-1938 года.
Вопрос: Вам предъявлено обвинение в том, что Вы являетесь агентом латвийской разведки и одновременно состоите участником антисоветской право-троцкистской организации существовавшей на Турксибир. ж. д.».
Медведев полностью признавал вину, рассказав, как был завербован, а также о своих знакомствах, в том числе с Домбровским, с которым они «устраивали банкеты и систематически рассказывали контрреволюционные анекдоты». Естественно, по части шпионажа и троцкизма это были лож и самооговор, и в сороковых Медведева реабилитируют, однако можно представить шок Домбровского: «…если влепят вам КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность или ПШ — подозрение в шпионаже, то все» («Факультет…»). Правда, теперь был не 1937 год, а 1939-й, и сказано было только про пьянки и анекдоты — ничего больше. Все то же самое, за что ему уже давали СОЭ — эта литера переводится как социально-опасный элемент.
31 марта 1940 года Особое Совещание выносит приговор — «заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет». Своей вины Домбровский не признает. Его отправят в Севвостлаг — на Колыму, где он чуть не погибнет: «…то на земле, то на нарах, то на больничной койке я провалялся год. Умирал, умирал и не умер» (из письма Л. Варпаховскому).
Но Домбровский выживет, вернется в Алма-Ату и узнает о смерти возлюбленной: «Женщина, с которой я жил в 1937−39 гг., погибла во время моего пребывания на Колыме» (из той же «Жалобы»). Она останется лишь одной из женщин, причем безымянной, в его судьбе, однако именно к ней он обращается в малоизвестном стихотворении — Домбровский был еще и поэт, — в котором поразительный «детгизовский» или какой-то хармсовский контраст настроения и «детских» картинок на фоне мирового ужаса. В уголовное дело 1949 года попадут записные книжки с лагерными стихами и этот текст оттуда. Странно, но его не нашлось ни в известных сборниках, ни в собрании сочинений. Возможно, он публикуется впервые.
* * *
В зоологическом саду
Спит облезлый какаду,
Словно столб от телеграфа,
Спит печальная жирафа.
На трапецию похожий,
Спит бразильский муравьед,
У него на глупой роже
Хобот бабочки одет.
И как стол на сто персон,
задремал индийский слон.
А тебе моя родная
И подавно спать пора…
Спи — к чему такая грусть.
Рано ль, поздно ль, я вернусь.
Хоть не знаю и того,
Для чего и для кого,
Но приходит бумеранго
К отпустившему его.
Добрый сон тебе желая,
Я зубрю тебя с утра,
А тебе моя родная
И подавно спать пора.
Владивосток, 1940 г. Весна.
Из допроса в деле 1949 года — литературоведы в погонах выискивают тайные смыслы и шифры: «Объясните следствию, что вы хотели сказать: «В зоологическом саду спит облезлый какаду». — Я описал переживания человека, думающего о девушке, живущей в другом городе». Погибла ли она на войне, или в оккупации, или по другой причине, но именно ей поэт поет свою прощальную колыбельную.
Автор — директор журнала «Вопросы литературы»
Игорь Дуардович
24.07.2020