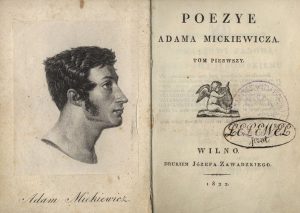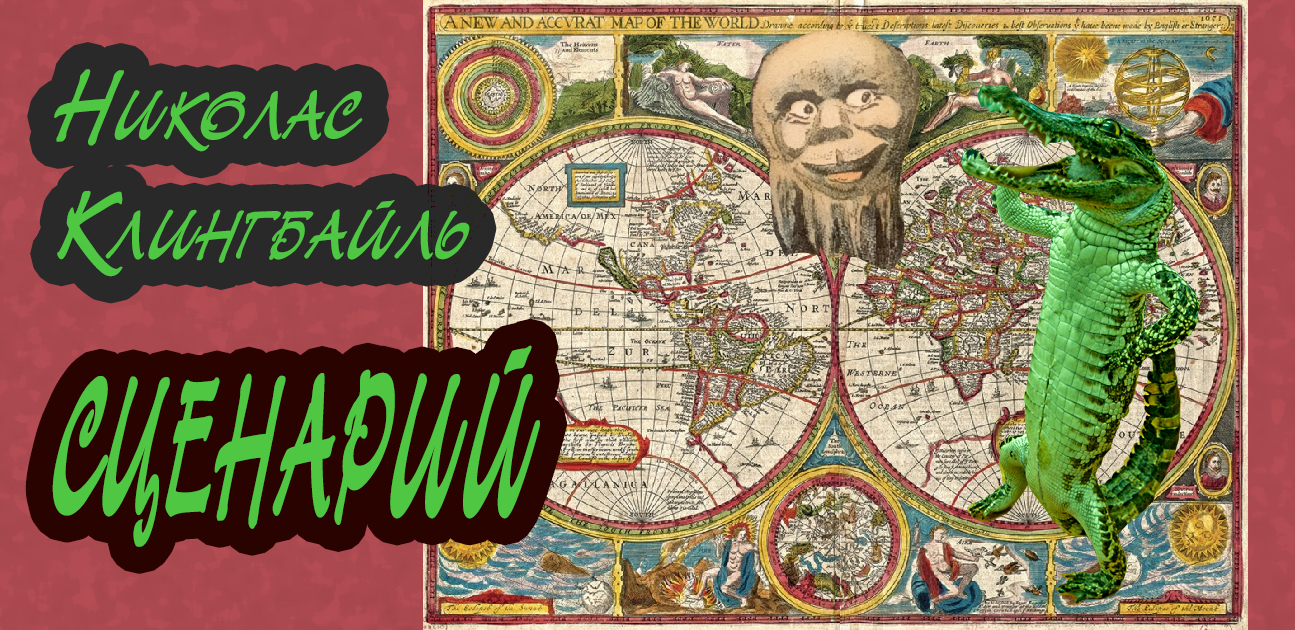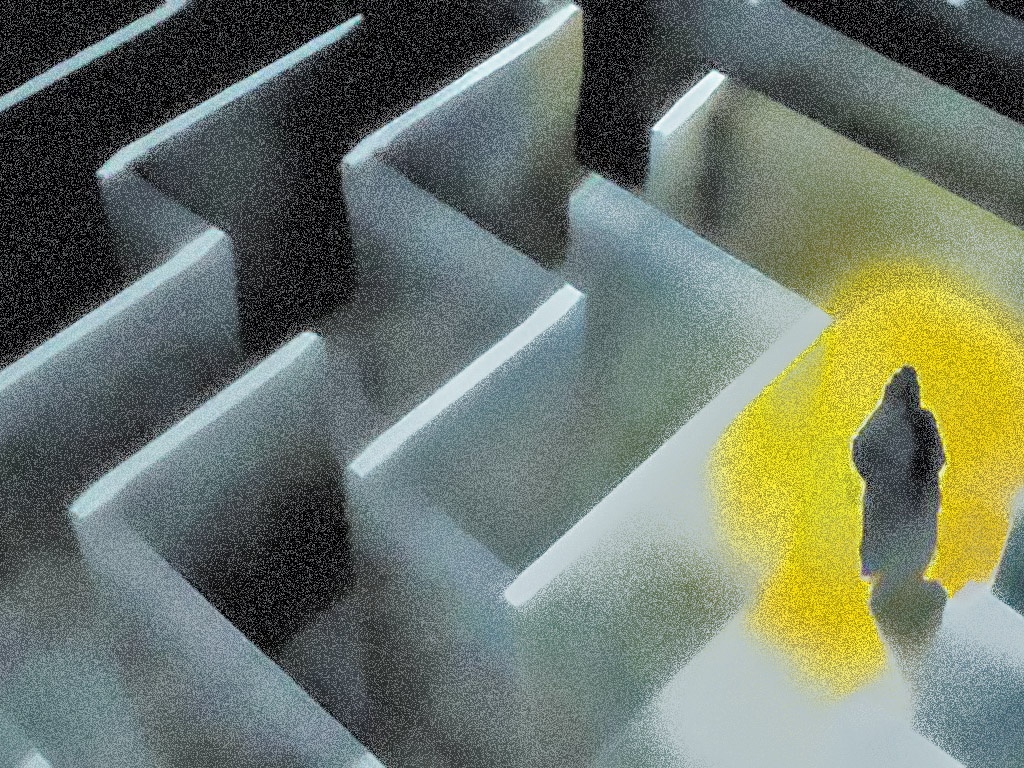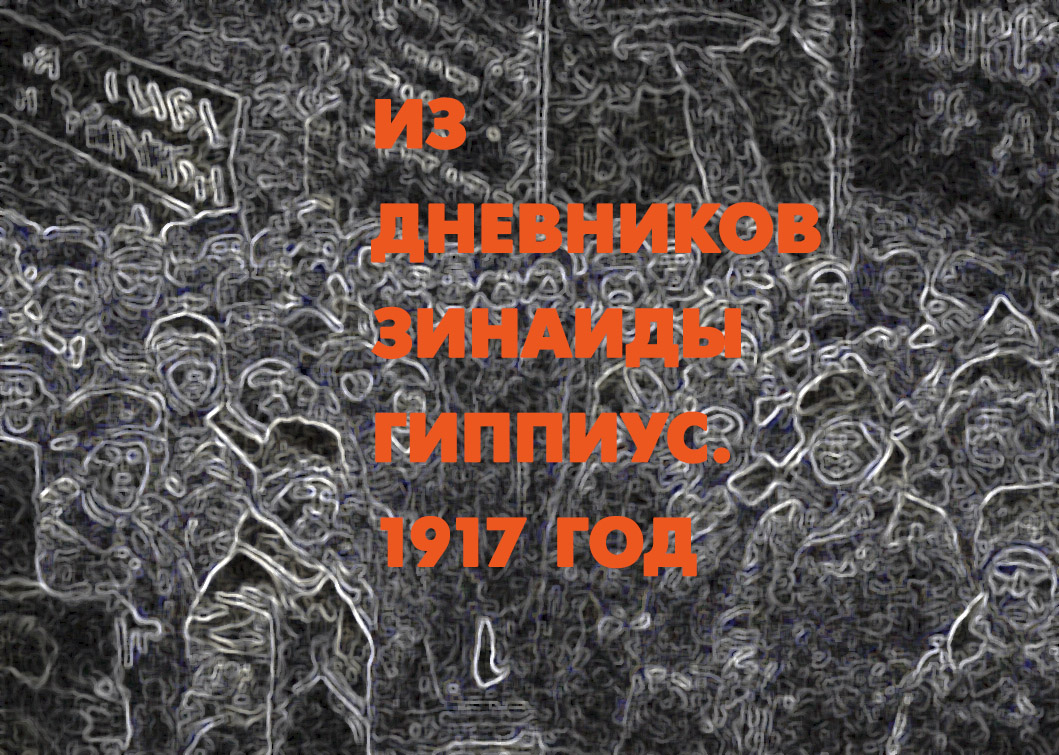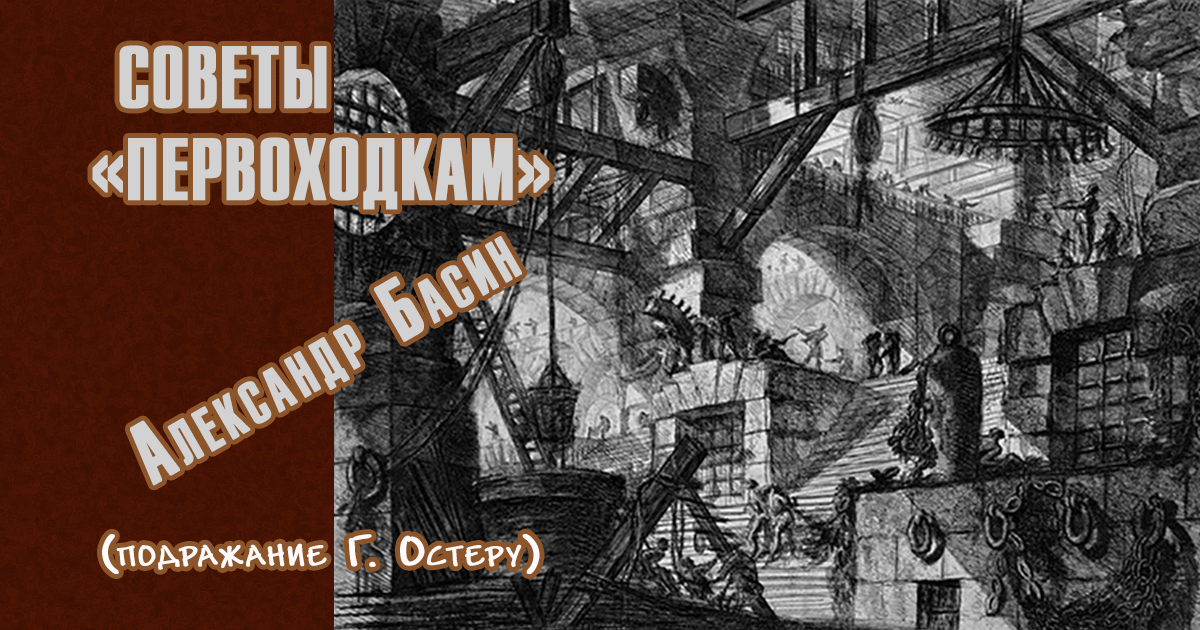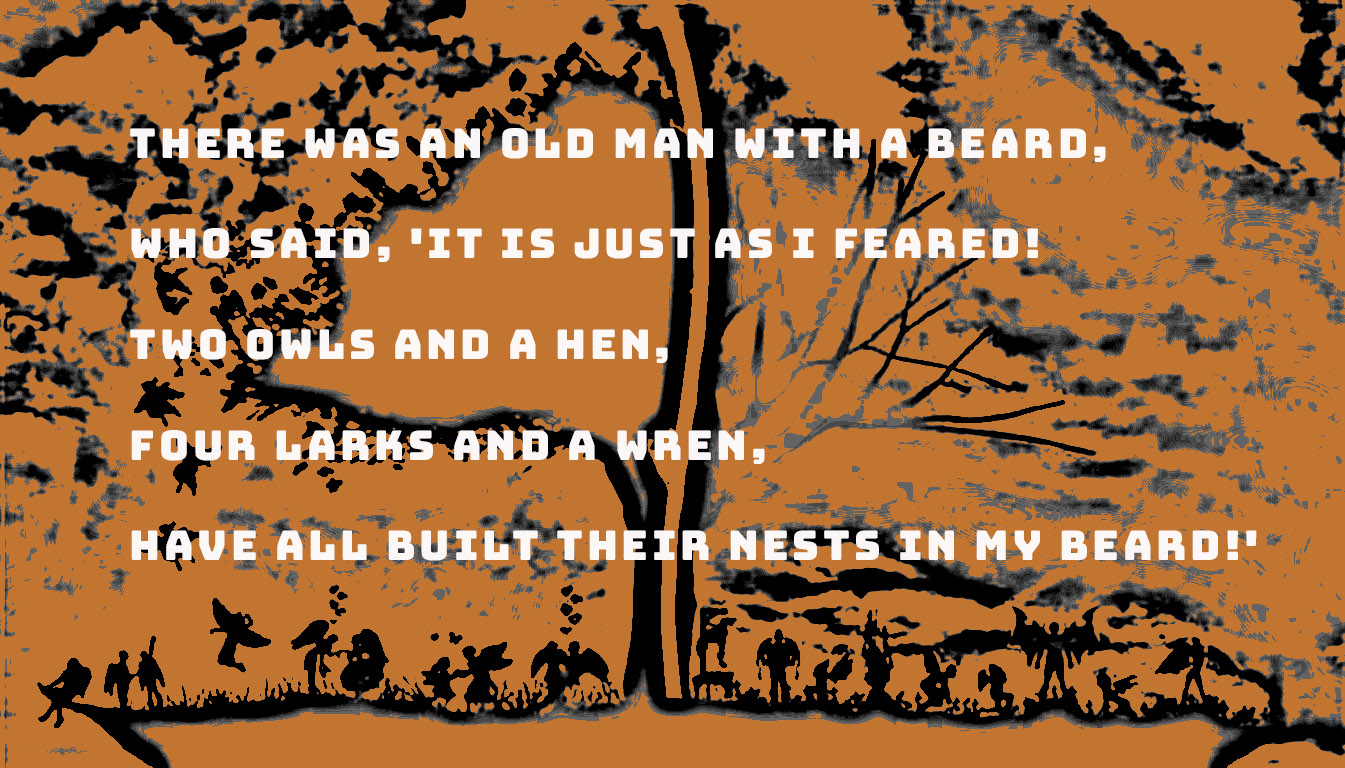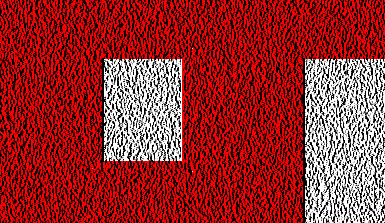Г. Г. Мясоедов, «Пушкин и его друзья слушают декламацию Мицкевича в салоне княгини З. А. Волконской», 1899–1907, картина из собрания музея А. С. Пушкина в Петербурге, фото: Getty Images
Мицкевич и Пушкин у памятника
Петру Великому
Укрывшись под одним плащом, Стояли двое в сумраке ночном… Под одним плащом или по разные стороны баррикад? Были близки или враждовали? Ревновали друг к другу женщину или музу? Восхищались или презирали друг друга? Что в этой сложной истории правда, а что миф? Об отношениях двух поэтов-пророков, читая мицкевичевское стихотворение «Памятник Петру Великому», рассказывает Мария Белкина.
Шел дождь. Укрывшись под одним плащом,
Стояли двое в сумраке ночном.
Один, гонимый царским произволом,
Сын Запада, безвестный был пришлец;
Другой был русский, вольности певец,
Будивший Север пламенным глаголом.
Хоть встретились немного дней назад,
Но речь вели они, как с братом брат.
Их души вознеслись над всем земным. —
Так две скалы, разделены стремниной,
Встречаются под небом голубым,
Клонясь к вершине дружеской вершиной,
И ропот волн вверху не слышен им.
Адам Мицкевич, 1832 год (перевод с польского В. Левика)
Так начинается стихотворение «Памятник Петру Великому» Адама Мицкевича. Пушкин прочел эти строки примерно через год после того, как стихотворение было издано в Париже. Томик стихов, запрещенный в Российской империи, привез ему Сергей Соболевский, вернувшийся из заграничного путешествия. Можно полагать, что Пушкину это стихотворение должно было прийтись по сердцу. Однако Мицкевич написал эти строки в тот момент, когда они с Пушкиным оказались по разные стороны баррикад. «Русский поэт» у Мицкевича говорит слова, далекие от того, что Пушкин высказывал в последних своих произведениях. Получается, что «Памятник Петру Великому» мог быть воспринят русским поэтом как издевка или ироничное напоминание о том, что он сам говорил Мицкевичу прежде. А может быть, это было предложение о перемирии? Или мечта о том, как они сойдутся снова в идеальном мире?
«С ним случится удар, если ты не придешь…»

Петр Кончаловский, «Пушкин в Михайловском», 1932. Репродукция: Юрий Иванов / East News
Когда, где и при каких обстоятельствах Мицкевич познакомился с Пушкиным, точно не известно. Безусловно то, что одна из первых встреч произошла 8 сентября 1826 года стараниями Сергея Соболевского. Осталась такая записка:
Не забудь же прийти, kochany Адам. Я объявил о нашем приходе Пушкину. С ним случится удар, если ты не придешь.
Мицкевич ответил на обороте этой записки:
Мор и глад на вас, дорогой Демон! Да пошлет господь бог на тебя худобу. — Я приду, но ради этого пропущу обед с очаровательной женщиной. Твой Адам.
С 1825 по 1828 год Пушкин и Мицкевич много раз пересекались в разных петербургских салонах, например у княгини Зинаиды Волконской, у Алексея Хомякова на встрече, посвященной новому номеру «Московского вестника», у Каролины Собаньской, в салоне дочери Михаила Сперанского Елизаветы Багреевой и в других местах. В письме, посланном в марте 1827 года из Москвы Антонию Одынцу Мицкевич пишет:
Пушкин почти одного со мной возраста (на два месяца моложе), в разговоре очень остроумен и увлекателен; он много и хорошо читал, знает новейшую литературу; его понятия о поэзии чисты и возвышенны. Написал теперь трагедию «Борис Годунов»; я знаю из нее несколько сцен в историческом жанре, они хорошо задуманы, полны прекрасных деталей. Но, кажется, я уже писал об этом тебе или кому-то другому!
Заметно, что Мицкевич уже тогда начинает чувствовать нечто общее между ними. Он подчеркивает, что они одних лет и подобным образом понимают поэзию.
Мицкевич присутствовал на чтении Пушкиным «Бориса Годунова» в салоне графини Лаваль, где были Вяземский и Грибоедов. Барон Е. Ф. Розен даже утверждал, что Пушкин исключил из «Бориса Годунова» сцену «Ограда монастырская» «по совету польского поэта Мицкевича и нашего покойного Дельвига». Сам же польский поэт писал, что «драма Пушкина в составе своем — подражание Шиллеру и Шекспиру. Но он худо сделал, что ограничил ее действие на земле. В прологе своем дает он нам предчувствовать мир сверхъестественный, но вскоре совершенно забывает о нем, и драма просто кончается политическою интригою», — в этой цитате легко узнается Мицкевич и его взгляд на театр. Кажется, он пишет тут не столько про «Бориса Годунова», сколько про пьесу, над которой в этот момент работает — «Дзяды», произведение в некотором роде историческое, в действие которого врываются демоны, черти, ангелы, духи и сама Польша, представленная чуть ли ни в образе Иисуса Христа.
Славянский Байрон, импровизатор, опальный романтик

Юзеф Олешкевич, «Портрет Адама Мицкевича», 1828, дар Владислава Мицкевича. Фото: Национальный музей в Кракове
Пушкин же, со своей стороны, по-польски совсем не читал. К счастью, Мицкевич в то время много выступает по-французски с импровизациями в разных салонах, и эти импровизации производят сильное впечатление на русскую публику. Антоний Одынец пишет о таких вечерах:
…возбудили изумление и восторг его импровизации, с которыми он выступал несколько раз и здесь, и в Москве, хотя импровизировал он прозой и по-французски. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильно! Помнишь это изумительное преображение лица, этот блеск глаз, этот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает, словно через него говорит дух.
И добавляет о случае с Пушкиным:
Во время одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого был дан этот вечер, вдруг вскочил с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, восклицал: «Quel génie! quel feu sacré! que suis-je auprès de lui? (Какой гений! какой священный огонь! что я рядом с ним?)» и, бросившись Адаму на шею, обнял его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними…
«Немыслимо себе представить, чтобы Пушкин, беря темой импровизацию, не вспомнил столь поразившую его импровизацию Мицкевича», — писала Ахматова про «Египетские ночи» Пушкина. Портрет импровизатора, пишет она, «соответствует описанию внешности Мицкевича, оставленному нам Полевым»; так подробно «Пушкин никогда никого не изображал (…) Известно, как эскизны пушкинские портреты (…) Исключение (…) — лица, действительно существовавшие (…) С такой же подробностью изображен импровизатор. Это, несомненно, портрет».
Русское общество увидело в поэте Мицкевиче того, кого давно ожидало увидеть. Ему открылся славянский Байрон. Харизматичный, преследуемый властями, обладающий редким даром импровизации, он был идеальным символом поэта-романтика, человеком, вышедшим прямиком из какого-нибудь романа того времени. Даже Пушкин не производил такого впечатления. За несколько лет, которые Адам Мицкевич провел в России, быстро создался вокруг него романтический ореол. Но для русских друзей он был скорее воплощением романтического образа поэта, чем самим поэтом. Мало кто читал в Москве по-польски, и не все знали его переводы, опубликованные в журналах. Вяземский так отзывался о нем:
При оттенке меланхолического выражения в лице, он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно и с примесью иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцвечивала речь его. По-русски говорил он тоже хорошо, а потому мог он скоро сблизиться с разными слоями общества. Он был везде у места: и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и за веселым приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу дарования его, верили пока на слово и понаслышке; только весьма немногие, знакомые с польским языком, могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека.
Над их головами бушевала гроза…
С Пушкиным они скорее казались приятелями, знакомыми, говорить о великой дружбе было бы преувеличением. С одной стороны, Пушкин безуспешно ходатайствовал в III Отделении о разрешении для Мицкевича вернуться в Польшу. С другой стороны, читая воспоминания Осипа Пржецлавского о встрече Пушкина и Мицкевича у Каролины Собаньской в 1828 году, можно решить, что они едва знакомы. Оба были неравнодушны к Каролине Собаньской. Мицкевич часто встречался с ней в Одессе, ее влияние заметно в «Крымских сонетах». Пушкин, встречавшийся с ней еще в начале двадцатых годов, в 1830-х посвятил ей стихотворение «Что в имени тебе моем…».
Она раз сказала Мицкевичу: «Это непростительно, что вы и Пушкин, оба первые поэты своих народов, не сошлись до сих пор между собою, — вспоминает Пржецлавский, — Я вас заставлю сблизиться. Приходите ко мне завтра пить чай». Кроме нас двоих и Пушкина был приглашен только Малевский и родственник хозяйки, Константин Рдултовский. Мы явились в назначенный час и застали уже Пушкина, который, кажется, неравнодушен был к нашей хозяйке, женщине действительно очаровательной.
цит. по: М. А. Цявловский. Мицкевич и его русские друзья // «Новый мир», 1940, № 11-12, с. 303–315.
У этой истории могла быть еще и другая подоплека — впоследствии стало известно, что Собаньская отправляла отчеты касательно Пушкина и Мицкевича в III Отделение и, возможно, желание принимать их обоих в своем доме связано именно с этим обстоятельством.
Оба поэта дружили с будущими декабристами, хотя и не участвовали напрямую в их политической деятельности. Однако причины их отстраненности были различны. Мицкевич, высланный из Литвы за участие в студенческом объединении филоматов, опасался слежки и провокаций, к тому же петербургское и московское общество он не считал в полной мере своим. Пушкин же был готов идти за декабристами скорее из дружеских чувств и чувства чести, чем по политическим убеждениям, а этого оказалось недостаточно, чтобы выйти с ними на площадь.

Здание в Вильнюсе, где Адам Мицкевич, Игнацы Домейко и другие филоматы находились в заключении во время судебных процессов, фото: Кшиштоф Тадей / FOTONOVA
Александр Герцен — младший современник, не бывший свидетелем и в силу этого говоривший лишь о своих предположениях и ощущениях — в «Былом и Думах» написал:
Пушкин возвратился и не узнал ни московского, ни петербургского общества. Он не нашел больше своих друзей, — не смели даже произносить их имена; только и говорили, что об арестах, обысках и ссылке; все были мрачны и устрашены. Он встретил на минуту Мицкевича, этого другого славянского поэта; они протянули друг другу руки, как на кладбище. Над их головами бушевала гроза…
И вправду, оба поэта оказались в подобной ситуации — Пушкин был потрясен гибелью и ссылкой декабристов, Мицкевич пережил свой арест и арест большинства своих друзей, высылку из Литвы. Тогда они еще чувствовали общность между собой.
Спор славян между собою?
Однако в следующих поэмах, опубликованных друг за другом в конце двадцатых годов, в «Конраде Валленроде» и в «Полтаве» начинают проявляться их противоположные политические позиции. Мицкевич говорит о революции, Пушкин — о величии государственной идеи.
Польское восстание 1830–1831-х годов разделило их окончательно.
«Известие о польском восстании меня совершенно перевернуло, — писал Пушкин в письме Елизавете Хитрово. — (…) Любовь к отечеству, какою она бывает в душе поляка, всегда была мрачна — почитайте их поэта Мицкевича».
Через полтора месяца, 21 января, Пушкин опять пишет к Хитрово:
Из всех поляков меня интересует только Мицкевич. Он был в Риме в начале восстания. Боюсь, как бы он не приехал в Варшаву — присутствовать при последних судорогах своего отечества.
Вскоре Пушкин напишет в «Клеветниках России»: «Оставьте: это спор славян между собою», а в «Бородинском сражении» — о восставших поляках, о славной победе над ними и милосердии русского царя к бунтовщикам.
Еще через год появляется цикл из семи стихотворений Мицкевича — «Петербург». Именно там публикуется стихотворение «Памятник Петру Великому», где Мицкевич пишет о двух юношах под одним плащом. И именно русскому поэту дается слово в этом стихотворении: «Царь Петр коня не укротил уздой, / Во весь опор летит скакун литой, / Топча людей, куда-то буйно рвется, /Сметая все, не зная, где предел» и «Но если солнце вольности блеснет / И с запада весна придет к России — / Что станет с водопадом тирании?».
Мицкевич вкладывает в уста Пушкина слова скорее желаемые, нежели действительные и делает он это в самый неподходящий для русского поэта момент. Для Пушкина того периода эти строки невозможны. «…Поэт приписывает Пушкину слова, которых он, без сомнения, не говорил; но это поэтическая и политическая вольность: ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя», — замечает в мемуарах Вяземский. Наверное, поэтому в польской историографии достаточно популярны предположения, что Мицкевич в этом стихотворении имел в виду скорее Кондратия Рылеева, поэта-декабриста, с которым был более близок, чем с Пушкиным. Однако строчка «Drugi był wieszczem ruskiego narodu» (Второй был пророком русского народа) в намного большей степени относится к Пушкину, чем к Рылееву.
Еще одно стихотворение этого сборника, «Русским друзьям», сам Пушкин принял на свой счет:
А иных, может, страшнее постигла кара небесная:
может, кто из вас, опозоренный чином или орденом,
продал свою вольную душу за царскую милость
и кладет земные поклоны у царских порогов.
*
Может, он наемным языком славит царское торжество
и радуется мучению своих друзей;
может, он на моей родине купается в нашей крови
и хвастает перед царем нашими проклятьями, как заслугою.
*
Если издалека, из среды вольных народов,
долетят к вам на север мои грустные песни,
пусть звучат они над вашей страною
и, как журавли весну, предскажут вам свободу.
(перевод Н. Огарева)
Поэтому в ответ Пушкин написал в 1833 году стихотворение «Он между нами жил»:
«(…) Он / Ушел на Запад — и благословеньем / Его мы проводили. — Но теперь / Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом / Стихи свои, в угоду черни буйной, / Он напояет. — Издали до нас / Доходит голос злобного поэта, / Знакомый голос!.. Боже! Освяти / В нем сердце правдою твоей и миром / И возврати ему…»
Памятник Петру Великому
Тем не менее, Пушкин полностью переписал в рабочую тетрадь стихотворение «К русским друзьям» и первые тридцать одну строчку «Памятника Петру Великому». Те строчки, в которых описываются два поэта и то место, где о Петре говорится, как о великом, но жестоком правителе, но не те, где Петр назван тираном и идет речь о «свободе с Запада».
И тут, казалось бы, можно поставить точку. Два поэта, встретившись в похожих жизненных обстоятельствах в двадцатые годы XIX века, спустя десятилетие разошлись окончательно. Но в сборнике Мицкевича было еще одно стихотворение — «Олешкевич», на которое Пушкин обратил внимание. Его он тоже переписал себе в тетрадь и добавил собственный подзаголовок «Олешкевич. День перед петербургским наводнением 1824 года».
В каком-то смысле, это стихотворение и «Памятник Петру Великому» повлияли на русскую литературу не меньше, а, может, и больше, чем на польскую. Ведь именно в ответ на эти два стихотворения Пушкин напишет «Медного всадника», желая опровергнуть все злые слова, которые польский поэт говорит о Петербурге, о Петре и наводнении. Пушкин так и пишет в «Примечаниях» к «Медному всаднику» в 1833 году:
Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.
Для самого Мицкевича наводнение в Петербурге также было знаменательным днем. Его недавно освободили из-под ареста в виленской тюрьме и только что выслали из Литвы, из родного дома, куда он никогда больше не сможет вернуться. Мицкевич едет в Петербург, ожидая для себя всего самого худшего. Петербург для него — столица империи, поработившей его страну, обиталище царя, арестовавшего ни за что его и его друзей. Впоследствии в пьесе «Дзяды», в известном отрывке «Импровизация Конрада», слова «царь» и «дьявол» используются как синонимы.
И вот польский поэт оказывается в столице 9 ноября 1824 года, ровно через два дня после самого страшного наводнения в истории Санкт-Петербурга. Его окружают разрушение и смерть. Это производит на Мицкевича сильнейшее впечатление: он воспринимает это как знак свыше, некий библейский символ, о чем пишет в стихотворении «Олешкевич». Поэт описывает день перед наводнением, затишье перед грозой, ощущение бури, которая вот-вот придет, но которую никто не видит, кроме лирического героя.
В мицкевичевском «Памятнике Петру Великому» в первый раз появляется хорошо нам всем известный образ всадника Петра, поднявшего коня на дыбы, образ царя, раздавливающего свой народ в погоне за величием.
Пушкин же, несмотря на желание опровергнуть сказанное Мицкевичем в этих стихотворениях, заимствует из них многие мотивы. Именно Мицкевич осмысляет петербургское наводнение в библейском ключе, словно всемирный потоп, а в Петре видит тирана, построившего «себе столицу, а не город людям». И несмотря на хвалебное начало и описание величия и красот Санкт-Петербурга, Пушкин приходит к тому же выводу, что и Мицкевич. Петр становится деспотом, тем, кто «уздой железной Россию поднял на дыбы», кто губит «маленького человека». В каком-то смысле, Пушкин своим путем, но приходит к монологу «русского поэта» из «Памятника Петру Великому», с которым он так яростно спорил вначале.
Друг Пушкина
После смерти Пушкина Мицкевич во французской газете Le Globe напечатал некролог, подписав его «Друг Пушкина»:
Я знал русского поэта весьма близко и в течение довольно продолжительного времени; я наблюдал в нем характер слишком впечатлительный, а порою легкий, но всегда искренний, благородный и откровенный. Недостатки его представлялись рожденными обстоятельствами и средой, в которой он жил, но все, что было в нем хорошего, шло из его собственного сердца. Он умер на тридцать восьмом году жизни.
В чем-то Пушкину повезло меньше, чем Мицкевичу: «В контексте духовной биографии Пушкина тема эта имеет совершенно исключительное значение: Мицкевич оказался единственным европейским поэтом, соизмеримым по своему литературному дарованию с Пушкиным, с которым поэту суждено было установить личные отношения…». Пушкину, погибшему намного раньше Мицкевича, не пришлось встретиться со многими великими поэтами и писателями, с которыми свела судьба польского поэта.
Литературный миф о великой дружбе и великой вражде двух поэтов, ставших пророками для своих народов, появился не только потому, что Мицкевич и Пушкин встречались в Москве и Петербурге, а потом спорили на политическом и поэтическом уровнях, но и потому, что оба они, осознавая величину друг друга, участвовали в создании этого мифа.

Автор: Мария Белкина
Филолог, культуролог, закончила Высшую школу экономики в Москве и факультет междисциплинарных исследований Artes Liberales Варшавского университета. Автор магистерской диссертации о политическом кризисе в Польше 1968 года, сотрудничает с Мемориалом.
Culture.pl