Повесть
1.
«У времени нет иной возможности кроме как проходить»
(И. Бродский)
Давно замечено, что почтение, с каким мы относимся к сочинениям древних, иной раз бывает излишним: найдя среди них ещё неизвестное, мы восклицаем и взмахиваем ручонками, искренне веря, что раз древняя, раз восточная, то и мудрость, и даже наоборот, что раз мудрость, то непременно – древняя, как будто сами, сейчас и на Западе, уже ни на что не способны. В действительности же, дойди до нас все без исключения записи древних, мы бы, подивившись, сколько там словесного сору, в оном немедленно и погрязли бы. К счастью, те из них, что в своё время показались или даже оказались ложными либо вздорными, давно разоблачены и похоронены в веках, а выжили – только верные, как аксиомы, и в их мудрости сомневаться не приходится.
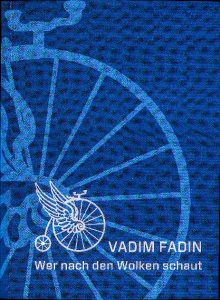
В берлинском издательстве Anthea вышла книга Вадима Фадина „Wer nach den Wolken schaut“ („Кто смотрит на облака“). Впервые немецким читателям представляется многостороннее творчество живущего в Берлине известного русского поэта и прозаика Вадима Фадина. Книга содержит произведения самых разных жанров – от стихов до эссе и повести, давшей название сборнику. Эта повесть впервые была опубликована на русском языке в 2008 году в Нью-йоркском «Новом журнале» и отмечена премией М. Алданова в номинации «Лучшая повесть русского зарубежья».
Узнав как-то от своих учеников одно из сохранившихся – «прежде чем войти, подумай, как выйти», – Захар Ильич Орочко, незаметный пожилой человек, решил, что этим советом надо руководствоваться везде и во всём и всякое намечаемое дело непременно рассматривать с конца; на то, что при этом хорошо было бы, как самое малое, представлять этот самый конец, он пока не обращал внимания, тем паче, что следовать новому правилу ему удавалось нечасто, а говоря честно – почти ни разу и не удалось. Когда, например, он задумал уехать на запад, его поначалу смущала необратимость такого шага, но после того, как бывалые люди поведали, будто теперь можно не жечь за собою мосты и при неудаче, раскаявшись, разочаровавшись, не прижившись в чужой стране, вернуться – в свою, он, пусть и поверив им на слово, так и не сумел представить себе это обратное движение – даже не в разорённое гнездо, а на пустое место, нечто вроде пожарища. Орочко решительно не знал, как, ошибившись дверью, выйти назад, чтобы потом всё же открыть – нужную, да и вообще во всей затее нашлось столько неизвестных, что воображение отказывалось нарисовать хотя бы какую-нибудь картину новой жизни. Только в дороге в одну сторону, отсюда – туда, он мог бы предусмотреть, кажется, все мелочи.
Уезжать будто бы не было особой нужды. Не питая нежных чувств к советской власти, он ухитрялся не иметь с нею отношений, то есть не требовать лишнего и терпеть что терпится: не замечал унижений, резко не двигался и был уверен, что никто никогда не подпортит ему карьеру – при том, что никакой такой карьеры и не могло наметиться у преподавателя игры на фортепьяно. Отсутствия в стране свобод он, при его образе жизни, на себе не чувствовал, хотя и любил порассуждать об оном – в гневном, конечно, ключе – в кругу старых друзей, и никакая сила не могла бы подвигнуть его даже на ничтожнейшие протесты на публике. Случись в стране какие-нибудь потрясения, это обернулось бы для него всего лишь необходимостью смотреть по телевизору иные, нежели теперь, программы; именно так в конце концов и произошло, и он – смотрел.
Между тем и до, и после потрясений кото из тех, кого он знал или встречал, и даже из друзей оказывались одни в Америке, другие – в Израиле; в последнее время заговорили и о совсем уже близкой, европейской стране: Германии. Захар Ильич до поры смотрел на это равнодушно, однако вода точила камень, и в один прекрасный день – именно в один, вдруг, без повода, так что он потом и себе не объяснил, отчего, – ему и самому отчаянно захотелось (или только стало ясно, что хотелось всегда) новой, цветной и сытой, жизни.
В стране творились удивительные перемены – с таким размахом, что не могли кончиться добром для маленьких людей, – и он решил, что лучше всего будет исчезнуть. События девяносто первого года лишь укрепили его в этом: стало ясно, что покоя теперь не будет ещё много лет, дай Бог дожить, да ещё и неизвестно, под каким знаком – звездой, свастикой или орлом – тот наконец установится. Он, правда, подозревал, что покойная жена не одобрила б его намерений. Но будь она жива, он, быть может, и не помышлял бы о бегстве – одному же стало невмоготу.
Из осторожности и суеверия Орочко ни с кем не делился планами, открывшись, по необходимости, одному лишь человеку, оркестранту Левину, который и сам уезжал и, пройдя многие инстанции, мог бы помочь дельным советом. Держать язык за зубами было непросто, делиться же мечтами и сомнениями хотелось безмерно, и Захар Ильич рано или поздно проговорился бы напрасно, когда бы у него не было замечательного выхода: обо всех своих надеждах и угрызениях он подробно, без утайки, рассказывал самому близкому ему существу – английскому бульдогу Фреду, – тем более, что тот самим своим существованием склонял хозяина к принятию решения. Когда в конце лета вокруг заговорили о плохом урожае и голодной зиме, Захар Ильич, легко поверив слухам, оттого что прилавки были пусты уже теперь, запаниковал не на шутку: сам он протянул бы до весны и на крупе, но собаке нужно было мясо. В конце концов всё обошлось, его научили, как покупать отходы мясокомбината, но было ясно, что такое счастье не вечно, и мечты о новой жизни стали определённее: каждому – своё, и если Левин стремился за границу, чтобы спасти от военной службы сына, то Орочко готов был пуститься следом, чтобы не ломать голову над тем, как накормить пса.
И всё же он колебался.
Скорее всего, раньше Захар Ильич заблуждался, считая себя хозяином собственных желаний, – теперь ему мнилось, что он их попросту давно уже не имел: после утраты жены существование его стало настолько однообразным, что он отвык задумываться над переменами, и получая даже незначительные предложения, неизменно оказывался в глухом тупике, не смея выбрать всего лишь одно из двух – из чёрного и белого, из сладкого и горького, просто из да и нет, – желая вкусить и того, и другого, а заодно и такого, чего пока не предлагали; тогда уже не удавалось выйти из положения старым способом, то есть сев и подумав, а оставалось одно: ждать происшествий, надеясь, что когда случится – любое, в уме непременно промелькнёт какая-нибудь совершенно посторонняя на вид мыслишка, которая, если ухватить её хотя бы за пёрышко, вдруг обернётся нужной подсказкою; такое бывало с ним когда-то в юности, и потом он обыкновенно скоро убеждался, что подсказка давно уже вертелась на языке, оставаясь, всё ж, неразличимой в толпе подобных и равных, и лишь благодаря чрезвычайному случаю, неважно, счастливому или несчастному, вдруг представала ему одна, без спутниц, во всей красе.
Однако в дни, когда возникла возможность переломить жизнь, никакой подсказки что-то не появлялось, и Захар Ильич растерялся, не только не умея, но и не смея определить, достоин ли, законен ли предложенный шаг – не понимая, чего хочет и чем может поступиться, – но спорил с теми, кто говорил, что он, в общем, ничем и не поступается.
– Один ты, Фред, похоже, никогда не сомневаешься, – с грустью сказал он приятелю.
Конечно, так было бы легче и ему самому, и всякому – с детства, как Фред, следовать одному-единственному своду непреложных правил, не отступая от них ни на шаг, ни на градус, несмотря ни на что.
– Вот откуда ваше собачье благородство, – продолжал он, удивляясь двусмысленности своих слов. – Вы не понимаете, как это можно преступить устав и какая в этом прелесть.
Потом он решил, что колебания суть уже повод для отъезда, вспомнив известное мнение о том, что всегда бывает лучше рискнуть, чем оставить всё как есть и потом до конца дней казниться, жалея об упущенном шансе. «Однако в моём возрасте, – вовремя оговорился Захар Ильич, – какие могут быть шансы? Только сыграть в ящик». Но, попытавшись уверить себя, что оставшийся небольшой земной срок можно протянуть в каких угодно условиях, он внезапно понял, что именно теперь угодно – в человеческих: на ум ему пришла больница, которой когда-нибудь, рано или поздно, а почти точно – рано, всё должно было кончиться. Это даже не пугало, а навевало смертельную (глупый каламбур) тоску. Совсем недавно ему пришлось отвозить в клинику близкого человека, и его так потрясло, что тому велели прибыть со своими постельным бельём, бинтами и с медикаментами по списку, что он едва не брякнул при враче: «А кровать? Вы обеспечите?». Койка нашлась, но на второй день после сделанной операции случилось осложнение, срочно понадобилось лекарство, какое не предусмотрели в списке и какого не нашлось во всей клинике – и работа хирурга пошла насмарку.
Думая, что такого не увидишь больше нигде, Захар Ильич счёл упомянутую нами тоску весомым доводом в пользу отъезда. Доводом же против был страх перед неизбежным одиночеством среди чужих – при скверном знании им нужного языка: немецкий он учил только в школе. Оба этих соображения уравновешивали друг друга, и он говорил себе, что при таком раскладе стараться не стоит, даже определённо решил, что не будет стараться для себя одного: иное дело, если б его усилия пошли на пользу доброму человеку.
Тут его и поймали на слове.
Оно вылетело за чайным столом в доме, где он давно не был и куда не собирался заходить в ближайшие дни; под эту крышу его загнала непогода. Ливень хлынул неожиданно, и Захар Ильич едва успел укрыться в первой попавшейся подворотне (дом был из тех, что называют лежачими небоскрёбами, то есть тянулся и тянулся вдоль проезда, будучи лишь изредка проткнут проёмами – надо надеяться, нарочно для того, чтобы нерасчётливый путник мог переждать непогоду). Лишь простояв несколько минут на сквозняке, он сообразил, что здесь живут Левины, и чтобы добраться до их парадного, нужно лишь пробежать сколько-то по улице. Он так и сделал, но то ли дождь был чересчур силён, то ли бегун слишком стар, а дистанция велика, но только на нём почти не осталось сухой одежды.
– Не найдётся ль у вас водички попить, – сказал он отворившему дверь хозяину, – а то я так продрог и проголодался, что переночевать негде?
– Можете и переночевать, – невозмутимо ответил Левин, не принимая шутки. – Да и переодеться найдётся во что. Вот как получается: не будь в природе стихийных бедствий, вы так бы и не зашли никогда.
– Мы с вами и без того видимся частенько – зачем же излишне обременять? А сегодня, видите – не вовремя.
– Не опоздали ничуть: мы, представьте, садимся попить чаю. Как раз вам и согреться, и обсохнуть. А хотите – есть и горилка: очень советую. Пройдите-ка в ванную: я дам, во что переодеться.
За столом, кроме самого Левина (жена, он предупредил, должна была прийти поздно), Захар Ильич увидел виолончелиста Черняка рядом с незнакомой женщиной лет пятидесяти – темноволосой и светлоглазой, – и, завёрнутый в огромный хозяйский халат, отчаянно застеснялся своего облачения. Разговор, как поневоле повелось во многих еврейских компаниях, шёл об эмиграции: о тех, кто уехал, кто собирается, кто «сидит в отказе». Для Черняка и Левина отъезд был вопросом времени, они подали бумаги и ждали ответа, гостья же, москвичка, потерпела неудачу уже на этой ступени из-за неладов с пятым пунктом анкеты, определявшим национальность: за границу отпускали одних евреев, но мать её была украинкой, а отец – евреем лишь наполовину, по мужской линии, то есть – будто бы и не настоящим; у неё самой в паспорте и подавно значилось: русская.
– В точности, как в том анекдоте, – заметил Левин.
– Каких только анекдотов не выдумывают про евреев, – посетовал виолончелист – невпопад, и Левин живо возразил:
– При чём тут это? В оригинале звучало так: он хохол, она узбечка, а сын – русский
– Интересно, сохранится ли пятый пункт до конца света?
– Его отмена и будет концом света.
– Вообще-то конец света – это ночная авария на электростанции.
– После Чернобыля это уже не смешно.
При упоминании о Чернобыле Захар Ильич сжался, вспомнив о покойной жене, но тему не стали развивать, и он, пока не вступая в разговор, вернулся к прежней мысли о том, как часто непростые вещи сводятся к банальностям или вышучиваются.
Нынешний сюжет был не нов и в нескольких словах звучал так: один рвётся прочь, но не может уйти, другой – может, но не рвётся. «Может» – это было про него: решив уехать, он неожиданно для самого себя стал выдумывать всё новые отсрочки, оттого что жалко было бросать свой класс: без учеников он оставался один на свете. Это было больное место Захара Ильича, и его неприятно изумила решимость нынешней москвички, готовой пуститься в дорогу в одиночку – незнамо куда и зачем.
– Кстати, об анкете, – сказал он ей. – Вряд ли вы, с таким славянским паспортом, страдали от общих наших ограничений.
– Вы очень верно оговорились, – кисло улыбнулась она. – Действительно – общих. Я не очень верю во все эти пресловутые перемены: ещё неизвестно, чем всё обернётся.
Ему и самому казалось, что обернётся – возвратом к прошлому, только – в искажённом, страшном виде.
– Я стараюсь об этом не думать, – проговорил он, – потому лишь, что мне, к счастью, поздно ждать результатов. И хороших, и плохих. Ну да, пятый пункт всегда останется при мне, но и он не навредит: не стану же я, пенсионер, устраиваться на другую работу, заполнять анкету, не предстану же перед кадровиком. Нет, мне уже не навредят.
– Ещё как навредят! – вскричал Черняк. – При первом же сокращении начнут, конечно¸ с вас: и еврей, и пенсионер переросток.
Захар Ильич молча махнул рукой, но после долгой паузы встрепенулся, вспомнив:
– Недавно я пережил предчувствие…
На сей раз он не оговорился: свежий собственный опыт открыл ему, что кроме предчувствий, к каким стоит прислушаться, и тех, какими лучше пренебречь, встречаются и такие, которые приходится переживать как потрясение.
Однажды среди бела дня, войдя в автобус, Орочко внезапно почувствовал, что вот-вот случится нечто страшное – быть может, в салоне взорвётся бомба. Растолкав пассажиров, он выскочил на тротуар, и автобус благополучно скрылся из виду; потом напрасно было сидеть весь вечер у телевизора или вчитываться в вечернюю газету – сообщений о теракте там не было. Между тем ощущение верного несчастья не только не прошло ни тотчас, ни с ночным, на удивление крепким для таких обстоятельств сном, но и усугубилось наутро: Захар Ильич проснулся со знанием, что произошло что-то непоправимое: началась война, чума, на лестнице затаились чекисты с ордером на его неправедный арест, снова запретили джаз – словом, жизнь кончилась. Собака, однако, была спокойна. Он бросился к окну – там было всё, как прежде, включил телевизор – но и там вместо маленьких лебедей или диктора с траурным лицом объяснялись в любви смуглые пижоны с такими слащавыми физиономиями, что он задохнулся от ярости: как они смеют, когда кругом – такое горе?..
– Чем же это наконец разрешилось? – нетерпеливо спросил Черняк.
– Абсолютно ничем. Я испытал настоящий ужас, а очнулся – где-то птички поют.
В наступившей паузе ему почудилось желание каждого отослать его к врачу; он уже собрался смиренно сказать, что понимает их, но его опередил Черняк:
– Так вы едете или не едете?
– Вы словно выпроваживаете.
– Чисто спортивный интерес. С другой стороны, начните дело, а там видно будет: пока вам ответят, пока что… Тогда и откажетесь. Невозможно ведь годами стоять на пороге.
– Согласен. Англичане так и говорят: уходя – уходи. В том смысле, что «бойся гостя стоячего…» Однако и гостя надо понять, потому что, если развить вашу аллегорию, то нельзя же выгнать человека в позднюю ночь: а ну как не найдёт дороги домой?
– Короче: вы едете или как?
– Если вы настаиваете, то «или как». От памяти не убежишь, и мои горести останутся при мне даже на краю земли, а вот сам отъезд может оказаться просто не по силам. Да и вряд ли стоит стараться ради одного себя. Вот если б это кому-нибудь помогло…
– Вывезите какого-нибудь родственника, – предложил Левин. – Доброе дело сделаете.
Подходящих родственников у Захара Ильича не было, и Левин придумал другое:
– Женитесь ненадолго.
Захар Ильич воспринял это как хорошую шутку:
– Забавно звучит. Но и обидно: а вдруг мне захочется пожить на этом свете подольше?
– Напрасно вы смеётесь: в таком деле фиктивные браки не редкость.
– Какой тут смех: сосчитайте-ка мои годы.
– Вам же ещё и заплатят за беспокойство, – заметил Черняк.
– Мне! – возмутился Захар Ильич, подумав, что всякий, даже фиктивный, брак накладывает обязательства и ограничивает свободу и что при этом отъезд теряет если не смысл, то привлекательность. – Для этого ищут, знаете, мальчиков.
– Как вы забавно испугались! – сказала ему московская гостья. – Словно здесь и вправду решают вашу судьбу.
– А вы бы, девушка…– заулыбался Левин и вдруг, сообразив что-то, вскочил с места. – Постойте-ка, постойте! Куда же мы смотрели? Вот вас двоих и надо отправить вместе.
– Как образцовую советскую семью, – подхватил Черняк.
Увидев, как расширились глаза предполагаемого жениха, ради такого случая наряженного в купальный халат с чужого плеча, Левин поспешил успокоить:
– В конце концов, нужно лишь пересечь границу – ну не напрасно же у вас птички то пели, – а там, на месте, разберётесь, разводиться ли, подтверждать ли статус или…
– Извините, Юрий Маркович, – перебила его женщина, – что за фарс вы задумали?
– Да не задумал нисколько, это импровизация, просто вырвалось, но теперь уж посудите сами: у вас обоих сразу решаются все проблемы.
– Удваиваются, – робко возразил Захар Ильич, думая, что только так, уклончиво, и можно сейчас выразить своё мнение: скажи он твёрдое «нет» – и женщина оскорбится тем, что её отвергают, согласись – посчитает его похотливым старикашкой, падким на сладкое.
– Не обижайтесь, Юрий, но ваш экспромт абсурден, – сказала она.
– Вот именно! – обрадованно вскричал Левин. – Неужели вы, живя в стране абсурда, от всех ждёте разумных речей? Вот что есть самый настоящий абсурд.
– Хотите сказать, что, с другой стороны, для «совков» нет ничего неразумного? – неуверенно проговорил Черняк.
– Ах, не умничайте, – поморщилась она. – Весь мир неразумен.
– Мусенька, в какую веру вы обратились?
– Как видите, я обращаюсь в бегство.
– Кто из нас двоих умничает?
Захару Ильичу как раз на руку было, чтобы они сейчас позанимались умственной гимнастикой – лишь бы позабыли о разыгранной сцене сводничества. «Как вы забавно испугались!» – сказала Муся, и он едва не запротестовал, но осёкся, оттого что будущее с нею и в самом деле испугало его, он больше не мог представить себе жизнь вместе – в одной комнате, квартире ли – с женщиной; давешнее решение стараться не для себя одного, а ради какого-то, тогда ещё неизвестного доброго человека, совершенно вылетело из головы. Верный своему правилу, он постарался заглянуть в дальний конец – чего? своего существования? нет, хотя бы переезда в другую страну – и не увидел там ничего определённого. Правда, и одиночество тоже потеряло там трезвую ясность, и он сумел вообразить себя в гробу, над которым склонилась женщина с букетиком цветов; ему каким-то образом удалось понять, что картинка относится к близким дням.
_______
Дождь перестал, но темнело, а чужая женщина всё ещё сушила утюгом его одежду, и Захар Ильич нервничал, оттого что Фред заждался.
Выйдя наконец наружу, он увидел, что народу на улице и в метро будто бы прибавилось против обычного – из-за того, быть может, что ненастье у всех отобрало добрый кусок дня и теперь нужно восполнять потерю. Между тем достигнутая до ливня точка была недосягаема: и календарь не досчитался поспешно, не вовремя оторванного листка, и очередная клетка износилась в теле, и сама Земля неотвратимо продвинулась, вертясь, от утра к ночи и от лета к зиме – но мало кто мог задуматься над этим. Не задумался и Орочко, не имел обыкновения: как и большинство из нас, его не интересовала суть времени: достаточно было сознавать, что оно проходит.
На его веку повторялось многое, и лишь того, к чему сейчас, видимо, шло дело, не случалось ещё никогда; до сего дня он и не верил, что случится, и лишь за странными разговорами у Левина, понял, что никуда не деться, он уедет, и что в новых обстоятельствах бытия никогда не повторится ничего из прежнего. Впереди его ждали странные порядки, чужой язык и непривычные пейзажи, непохожие на те, что сейчас мелькали за окном. Он даже привстал, чтобы вглядеться, приложил ко лбу руку, оттого что отсвечивало стекло – и рассмеялся: он ехал в метро, в трубе.
«С такими фантазиями я в Германии прямым ходом попаду в психушку, – подумал он, – и, наверно, тамошние безумцы покажутся вполне нормальными людьми, оттого что я не пойму их бреда».
Дорога к дому вела вдоль пустыря, куда обыкновенно выводили собак из окрестных кварталов; здесь сложились изрядное собачье общество со своими законами, привязанностями и антипатиями и, как копия, – пёстрое общество собачеев. Земля после дождя раскисла, и Захар Ильич не увидел тут ни души. Это значило, что ему предстояло вести Фреда по людным тротуарам, и сегодня это было кстати, оттого что ему хотелось не болтать с соседями о пустом, а думать.
– Извини, старик, – сказал он через несколько минут, – придётся взять тебя на поводок, иначе ты вывозишься по уши. Зато я расскажу тебе кое-что забавное.
Ему нужно было выговориться: давешнее чаепитие немало озадачило его.
– С другой стороны, – продолжал он, – я, наверно, несправедлив: Левин старается помочь сразу всем. Да и я ляпнул, что готов к тому же. Короче: не хочешь ли ты завести себе новую хозяйку?
Задай кто-нибудь тот же вопрос самому Захару Ильичу, он затруднился б ответить, ему и в самом деле было проще положиться на мнение Фреда: собаки лучше людей разбираются в людях, причём – с первого взгляда.
– Не подумай плохого, я не предаю Риточку, да только и она сама, умирая, сказала: «Женись. Один – пропадёшь». Не пропал, как видишь, и всё же холостяком хорошо быть в молодости, а сейчас, когда, как говорят, случись что – и некому стакан воды подать… Кто – кому?.. Вдобавок слышен ещё и такой мотив: не знаю, едем мы с тобою или нет, но знаю, что могу кого-то выручить. И скажи, нам это нужно?
Всегда было заведено, что кто-то появлялся, кто-то уходил, и он, не находя удивительного в таком порядке, писанном для других, долго оставался рассеянным наблюдателем, сродни пешеходу на людной улице, не задумывающемуся, куда и отчего навеки пропадают встречные, а потом умерла Рита, и мир предстал ненадёжным и зыбким. Ему стало трудно разговаривать с прежними знакомыми – никого в эти дни не потерявшими, – и те постепенно переменили свои положения в пространстве: одни исчезли, другие, хотя и приблизились, но двигались перед глазами равнодушно, как мимо нищего, расположившегося на тротуаре. Зато неожиданно приблизился, словно проявившись из тумана, Левин, раньше не слывший не только другом, но и близким приятелем, просто старый знакомый, с которым у Орочко теперь вдруг появилось нечто общее: оба, оказывается, уезжали, хотя и в разные страны; из-за этого Левин стал ближе прочих – и уже вызывал на откровенность и вмешивался в судьбу, и согласись Захар Ильич сегодня на его предложение, тот и подавно стал бы другом семьи.
«Чушь, – остановил он себя. – Друг семьи, дома, а между домами – моря и горы?»
– Нам это нужно? – повторил он вслух, одновременно додумывая чуть-чуть другое: не насмешка, не розыгрыш ли предложение Левина – с того могло статься. Впрочем, даже если тот и не шутил, Захар Ильич, согласившись, всё равно проигрывал, оттого что проку, в смысле женской заботы, от фиктивного брака ждать не приходилось, а развода в чужом государстве он мог и не добиться. «Ах, нет, – спохватился он, – какой развод? Зачем?»
Он решительно не хотел ничего временного, но в то же время всё другое, постоянное, пугало непоправимостью: он мог увязнуть – и пропасть.
– Представь, – продолжал он, – у неё должны быть и дети, и, пожалуй, внуки, и муж (но где же муж?), пусть и бывший, – а она говорит о себе лишь в единственном числе. Как это понимать? Ждать, что она вдруг начнёт вписывать в заявление об отъезде одного за другим всю родню? Тебе, наверно, тоже не понравилось бы жить в таборе. Но и с другой стороны: не стыдно ли будет мне, старику, идти под венец? Не говоря уж о том, что все сразу разоблачат сделку, но… Но что они скажут о невесте? Нет, на нас с тобой, Фред, и без того свалилось слишком много. Может свалиться. К тому же не исключено, что я рехнулся… И всё же: втроём нам было бы легче в дороге.
Положительно, у него не нашлось в этот день иной темы для обсуждения с собакой.
_______
Не будь собаки, Орочко ни с кем бы не познакомился в поезде, безвылазно просидев в купе в напрасных стараниях понять, что же с ним произошло и как далеко могут завести условности фиктивного брака. На остановках, когда он ухитрялся выводить Фреда, с ним (со псом, скорее) заговаривали – один человек, другой, такие понятные среди иностранной публики на перроне, – и ему захотелось, чтобы эти один, два, три человека остались его попутчиками до конца дороги. Истинных размеров своей компании он не представлял, и поразился, когда на назначенной станции вместе с ним из поезда высадились, загромоздив платформу множеством чемоданов, сумок и картонных коробок, добрых два десятка его соотечественников. Началась весёлая неразбериха из-за тележек, на которые можно было бы погрузить скарб, зато вопроса, куда теперь двигаться, уже не возникло, оттого что совсем рядом с группой, на виду стояла крупная молодая женщина, державшая на древке табличку с надписью кириллицей: «Евреи».
– Вот когда вы пожалеете, что уехали, – сказал Захар Ильич своей спутнице. – Подгонят теплушку и – в Бабий Яр.
– Она и в самом деле походит на надзирательницу, – согласилась Муся. – Фельдфебель.
Та представилась иначе: комендант (комендант чего – никто не разобрал, но не концлагеря же), фрау Фогель, и была приятно возбуждена – пока не подошла к Орочко.
– Мой Бог! – воскликнула она, обнаружив Фреда. – Что это?
Захар Ильич молча развёл руками.
– Но это невозможно, – развела и Фогель.
– Переведите кто-нибудь, – попросил он, и, когда начали переводить, твёрдо заявил, позабыв о стоящей рядом молодой супруге: – У меня больше никого нет.
– Прелестное животное. Сожалею, но я не могу его принять.
– Назад я не уеду.
– Естественно. Но я не знаю, как поступить: это – первый случай… Придётся позвонить руководителю, проконсультироваться: возможно, он разрешит отправить вас в деревню. Идите в автобус.
Что ж, его, по крайней мере, не оставляли на вокзале до обратного поезда.
На улице их ждал автобус с прицепом для багажа.
– Видите, – повторил он свою мрачную шутку, – наше добро увезут себе, а нас – прямиком в овраг.
Только сейчас Орочко заметил, как по-разному выглядят вещи его и Муси: собранные по продуктовым магазинам коробки, в которые оба упаковали посуду и бельё, были у них, разумеется, одинаковыми, но за свои чемоданы, выставленные напоказ посреди перрона, ему впервые стало стыдно: он уложился в два старых фибровых, с железными уголками, оставшихся чуть ли не с военных лет, и сейчас рядом с ними стояли Мусины – щегольской кожаный и второй – обтянутый нарядной шотландкой. «Неправдоподобно, для одной то семьи», – признал он, тотчас успокоив себя предположением, что замечать подобные несоответствия здесь решительно некому, вернее, незачем, – ошибался, конечно.
Его попутчики были оживлённы, а сам он – подавлен; его не оставили на вокзале, но, не придумав, как обойтись с собакой, могли вернуть туда в любую минуту, лишь бы успеть к обратному поезду. Он лишний раз пожалел о том, что не предусмотрел подарка для тех, от кого зависело его устройство, – не то, чтобы забыл или не подумал (живя в бывшем Союзе, где, куда ни глянь, брали взятки либо воровали, нельзя было не подумать об этом), но – не выбрал. Не так давно, он знал, все уезжавшие за границу непременно везли с собою фотоаппараты «Зенит» – для взяток или перепродажи с солидною прибылью, – и сам хотел захватить такой же, но ему вовремя сказали, что эта техника годится теперь только для музея. Что ещё могло бы послужить хорошим подарком, он не мог себе представить, справедливо считая, что на западе никого ничем не удивишь. Русской водкой? – но это выглядело бы не очень красиво. Матрёшкой? Он вёз их несколько штук, но считал слишком дешёвыми для его случая сувенирами. Как ни посмотри, он оказывался просителем с пустыми руками.
Когда машина тронулась и Захару Ильичу предстал невероятный до сих пор городской пейзаж с крутыми красными крышами и не поддающимися прочтению вывесками, он подумал, что должен бы ощутить себя отпускником, туристом – но в действительности не мог отделаться от ощущения сделанной ошибки, чреватой то ли тоскою, то ли казённым домом. Чуть погодя живописная старинная застройка сменилась кварталами современных зданий, и он понял, что если всё кончится хорошо, ему придётся жить в одной из таких коробок с низкорослыми комнатами. Прикидывая на глаз, Захар Ильич вывел, что, пожалуй, и в «хрущобе», где он прожил последние тридцать лет, даже и там потолки были, пожалуй, чуть повыше; для сравнения годилась, наверно, только музыкальная школа, в которой он когда-то учился, а потом учительствовал. Заведение помещалось в износившемся особняке, в котором фортепьянным классам был отведён надстроенный, а потому – неполноценный этаж; впервые поднявшемуся туда ученику показалось, что любой взрослый мог бы не просто достать рукой до потолка, но и приложить плашмя ладонь; вышедший из этого мальчика учитель не сумел дотянуться – ни так, ни этак. «Иначе я прожил бы свой век, пригнувшись, – подумал он, не печалясь. – А вот Мусе придётся привыкать». Но никакие прежние привычки, продолжал он про себя, не сохранятся в новой жизни, как только поймёшь, что изменившиеся обстоятельства будут сопровождать тебя до конца не воскресной поездки, а – дней; предсказать их свойства не взялся бы никто, всё зависело от того, от каких напастей человек бежал и что мечтал приобрести. О нём самом кто-то сказал, вспомнив старую формулу, что он, мол, выбрал свободу, – и оказался неправ, потому что при всех сказанных красивых словах уезжал Орочко вовсе не из высоких соображений, а всего лишь за лучшей жизнью. После пересечения границы он как раз ощущения обретённой свободы или хотя бы непривычной лёгкости немедленно и не испытал, напротив, здесь его что-то угнетало, быть может – неопределённость положения: как-никак, он был ответствен перед чужой женщиной – своей нынешней женой. Только то он и мог вспомнить себе в утешение, что она, видимо, получила то, что хотела: он знал, что ехала Муся, в отличие от него, не из страны, а – от неё.
– Что это было там насчёт деревни? – наконец поинтересовался Орочко.
– Что Фреда если и примут, то лишь там. Остальное можно домыслить: я буду свинаркой, вы – пастухом. Да не огорчайтесь так: кто знает, где проиграешь, где – выиграешь?
– Но это же выход! – горячо зашептал он, распаляясь от случайной мысли. – Смотрите только, впрямь не попроситесь в свинарки: наоборот, ни за какие коврижки не соглашайтесь ехать со мной. Нам же надо разделиться, и это – шанс.
Его идея оказалась на редкость удачной, но оба они узнали об этом не теперь. Отправлять Мусю прочь из города не было резона, её оставили со всей группой, отчего и первые немецкие бумаги выправили ей и Захару Ильичу не как членам одной семьи, а каждому отдельно, и вышло, что они больше не зависели друг от друга.
_______
Для начала следовало осмотреться, и Орочко, свалив свои вещи в углу комнаты – и на самоё комнату глянув только мельком, – поспешил выйти с Фредом наружу. Двухэтажное неказистое здание, куда их привезли, стояло на самой окраине… окраине – чего? На деревню это походило мало – впрочем, он плохо представлял её себе в немецкой версии – при том, что толком не видел и русских. Неизвестно, было ль это упущением, но приходилось признать, что там, в Союзе, он не бывал в деревнях – не просто не пожил, но даже и не переночевал ни в одной, и всё знакомство с ними сводилось к наблюдениям из окна вагона, когда праздному пассажиру представали рубленные избы в три окошка, огороды, куры да непроезжие после дождей дороги – в российских областях, и белые мазанки, обсаженные невысокой зеленью, в скучном, без колоколенок, выцветшем на солнце пространстве – на Украине. Теперь он рассматривал окрестность с недоумением: тротуары из бетонных плиток, оштукатуренные дома, цветы на балконах и цветы на клумбах, стриженные газоны вместо грядок; скорее, он назвал бы это дачным посёлком – из лучших. Правда, через три или четыре двора, перед близким лесом он разглядел загон с парой лошадей и подумал, что надо бы подойти поближе, показать их Фреду; тот, пожалуй, никогда не видел зверя крупнее кошки. Тут Захар Ильич рассмеялся: а он сам? Наблюдать животных на воле ему, городскому жителю, не довелось, а в зоопарке он был в последний раз лет тридцать назад, с сыном, будучи тогда уверен, что так и будет ходить сюда, старея – со внуками, потом, Бог даст, и с правнуками. Бог не дал, а взял: сын, ещё неженатый, погиб на афганской войне, не оставив никого.
Вряд ли сын уехал бы вместе с ним заграницу.
Захар Ильич с изумлением слушал голоса невидимых птиц, вдыхал насыщенный незнакомыми ароматами свежий воздух и думал, что с этой минуты и начать бы жить сначала – нет же, спокойное существование только неясно маячило где-то впереди. Фогель объяснила, что даже и здесь для него с собакой, приютив, делают исключение и что ему необходимо поскорее найти себе квартиру. С искренним недоумением он вскричал: где? Ответ был прост до наивности: в любом городе, где захотите, но – в пределах нашей федеральной земли. Он не сумел сказать ей, что в Союзе его очередь на жильё шла много лет.
Что ж, он привёз с собой настенную карту Германии.
– Это была чистейшая авантюра, – признался он Фреду. – Ты – почти пенсионер, я – давно уже, к тому ж и говорим мы каждый на своём языке. Представь себе, как мы станем объясняться в каком-нибудь домоуправлении.
– Вот это псина! – воскликнул встречный подросток по-русски. – Можно погладить?
Совсем недавно, однако – в прежней жизни, Захар Ильич слышал от учеников анекдот: «Скажите, это правда? Ваша лошадь говорит, что училась в Оксфорде!» – «Не верьте ей: обычная говорящая лошадь».
– Можно, – ответил он, – если пёс услышит, что вы поздоровались. Для него это важно.
– Здрассте. Только, знаете, лучше говорите со мной «на ты», как все, а то я сбиваюсь.
– Здравствуй. Вот теперь можно погладить: Фред понял, что ты – свой.
– Фред? Как-то не по-нашему… Не по-собачьи.
– Он – английский бульдог. А как мы все недавно узнали, национальность обязывает.
Мальчику нечего было ответить. Он ласкал собаку и лишь после долгой паузы сказал, почему-то вполголоса:
– Я здесь с бабушкой.
– А что… – начал было Орочко, но вовремя сообразил, что спрашивать о родителях, видимо, не стоит. – А что, ты давно здесь?
– Тут «давно» не бывает: подолгу не держат. Это, по-нашему говоря, пересылка.
– Откуда тебе знать, что такое пересылка? – усмехнулся Захар Ильич, поворачиваясь, чтобы идти дальше.
– Я к вам ещё подойду, можно? Увидимся?
– Увидимся, – повторил он, когда мальчик уже не мог его слышать.
Его занимало, увидится ли он снова с Мусей – если только сейчас же не нагрянет к ней с ненужным визитом. «В странное положение я её поставил, – думал он. – Надо бы написать ей, пока ещё известен адрес. Жаль, я не мастак в этом». И в самом деле, первое письмо далось бы ему с великим трудом, даже – первые строки его: Захар Ильич не знал ни какой следует задать тон, ни как обратиться; он словно бы опасался, что невинная переписка с законной супругой может превратиться в почтовый роман.
«Нет я никогда не сумею написать что-нибудь складно, – сказал он сам себе. – Да и о чём? У меня нет столько мыслей. Удивительно, как это люди сочиняют книги»
Он медлил столько, что получил весточку первым, в первое же утро; получил – и порадовался своей нерасторопности. «Старик, а приятно», – проговорил Захар Ильич, перечитывая недлинную записку. Муся только о том и написала, что устроилась хорошо: обрисовала свою комнату с видом на чей-то цветник и, за крышами – на деревья парка. Теперь она ждала ответа, а Захару Ильичу что-то не хотелось вторить ей, извещая, что тоже нашёл угол и доволен им: это было бы неправдой из-за данного комендантше обещания немедленно приняться за поиски постоянного жилья. Лучше было б описать деревню, да он не умел, и, пожалуй, лишь рассказ о здешнем эмигрантском обществе не доставил бы затруднений, оттого что всё оно состояло из вчерашнего мальчика с бабушкой.
Он увидел их, возвращаясь с Фредом с вечерней прогулки: невысокая грузная женщина сидела, подстелив одеяло, на бетонном парапете, отделявшем палисадник, а внук выделывал перед нею странные пассы – быть может, рассказывал о футболе.
– Так вот он, – сказал Саша бабушке. – Я же тебе говорил.
Она вздрогнула при виде Фреда.
– Наши, как водится, собираются лишь к ночи, – представившись, пробормотал Орочко, только бы что-то сказать.
– Разве с вами приехал кто-то ещё?
Ему не понравилось, что во всём доме их оказалось всего трое: о них могли забыть, что-то для них не сделать, куда-то не отвезти, обрекая на вечную жизнь в глуши.
– Но и с вами, я вижу – нет, – отозвался он. – Что же вы, с самого начала – так, вдвоём?
– Еле увезла парня, – пожаловалась Фаина. – Поверьте, шла настоящая война.
– Неужели до такой степени?
С ним редко делились семейными дрязгами, но Захар Ильич, тем не менее, сразу представил себе историю, какую предстояло выслушать – таких немало попадалось в газетах: пьющая, гулящая мать одиночка, заброшенный ребёнок с целым букетом пороков.
– Мать вечно пьяная, один мужик за другим… – зло сказала Фаина, когда мальчик отошёл в сторону, – Сашку, чуть что – на улицу, а на улице – сами знаете, кто. Он мальчик тихий, к тем вроде бы не пристал, вот его и били чуть ли не каждый вечер. Теперь же ему, не успеешь оглянуться – в армию, а там и вовсе забьют. Сдачи он давать не умеет, вот что.
– Значит, всё же семья… До призыва то ещё несколько лет.
– Для вас – несколько, а для меня – завтра.
– Теперь уже неважно.
Неважно – потому что мальчик надолго оставался одиноким. До тех пор, пока не встретит свою женщину.






























