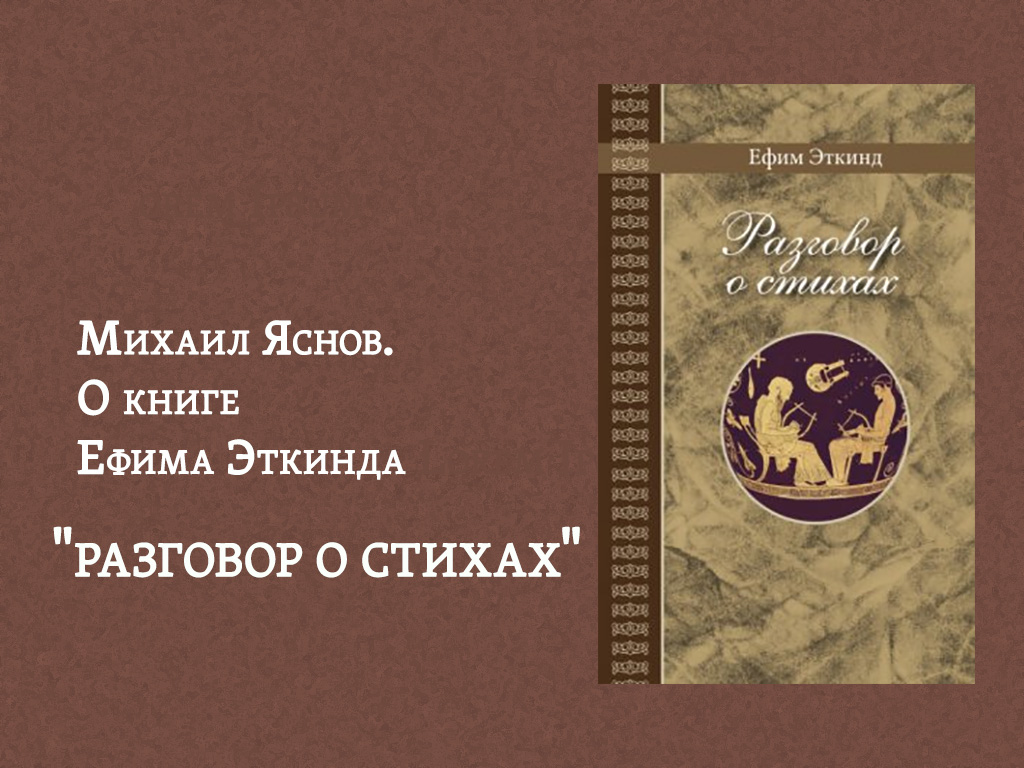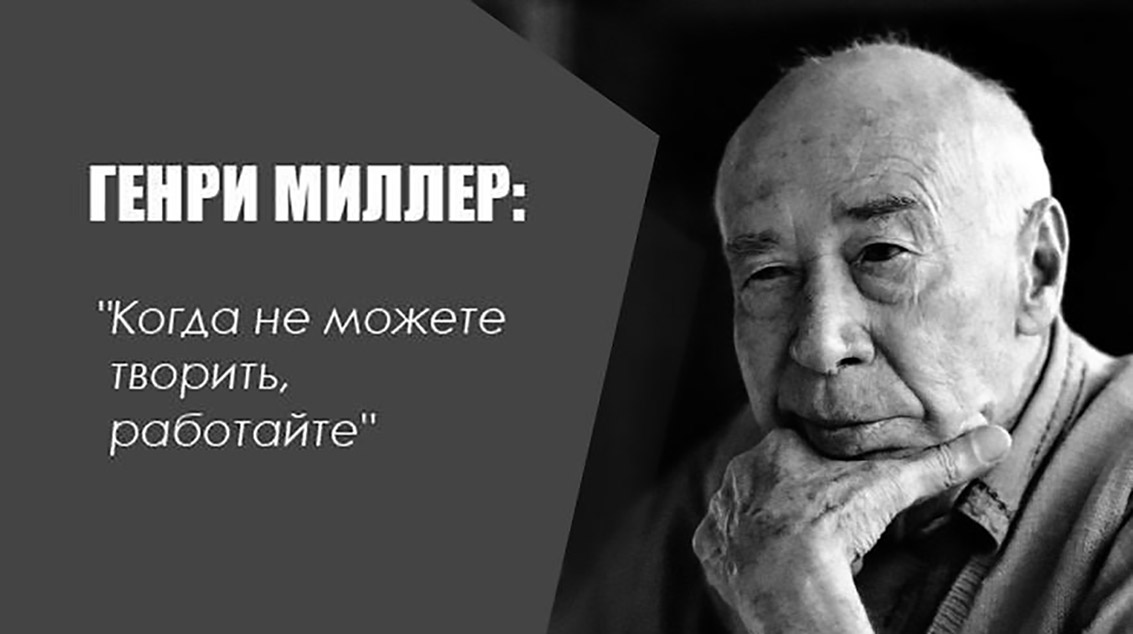Последнее интервью Андрея Синявского
А. Ч. Давайте поговорим если не об итогах тысячелетия, то об итогах века.
А. С. За тысячелетие я не ручаюсь… А двадцатый век — до некоторой степени моя специальность.
А. Ч. Как вам представляется российский Парнас? Не только поэтический, но и прозаический. Есть там своя иерархия?
А. С. Есть, конечно.
А. Ч. Начнем с поэзии?
А. С. Ну да, ведь в XX веке поэты лидируют. Проза просто не успела развиться. Ее прихватил мороз. Советский мороз. А поэты успели. И русская поэзия двадцатого века — блестящая страница мировой культуры.
А. Ч. Кто же для вас номер один?
А. С. Номера один нет. Я могу сказать, кого я люблю. Ну что делать, если семь гениев после Блока?
А. Ч. Давайте пальцы загибать.
А. С. Я не по порядку. Из акмеистов — Ахматова, еще из поэтесс — Цветаева… Из футуристов — Маяковский, Хлебников, Пастернак… Вероятно, еще Ходасевич… Клюев, Есенин…
А. Ч. А Мандельштама пропустили?
А. С. Ой, конечно, пропустил. Он гораздо больше, чем Ахматова. Я ее не очень люблю…
А. Ч. А из «советской» поэзии? Из фронтовиков или более позднего поколения?
А. С. На гения?
А. Ч. На гения.
А. С. На гения никого. Гений — понятие относительное. Я считаю одного, вы другого. Но ведь ряд-то — блестящий!
А. Ч. И все-таки все, кого вы назвали, родились в девятнадцатом веке. Значит, и поэзию морозом побило?
А. С. Ну конечно…
А. Ч. Ведь какой великолепный поэт Борис Слуцкий, а в тот ряд его нельзя…
А. С. Нельзя. (Синявскому приносят факс. В Москве с поста секретаря Совета безопасности снят Александр Лебедь.)
А. С. (после паузы) Черт знает что…
А. Ч. Это, кстати, о «чудной музыке», которая не помогает ничему. Продолжим?
А. С. Да.
А. Ч. Видимо, в XX веке, кроме поэтического дара, у поэта должна быть еще и трагическая легенда. Все, кого вы назвали…
А. С. Четверых из них я называю «поэты-зрелищники». Это Блок, Маяковский, Цветаева…
А. Ч. Хлебников?
А. С. Да нет, Есенин. Зрелищники все самоубийством кончали. Вот Блок: “Посмотрите на меня. /Я стою среди пожарищ, /Опаленный языками /Преисподнего огня… “ То есть биография превращается в поэтический факт. Это, конечно, у любого поэта. Но не любой делает из этого зрелище. Причем биография провиденциальная. И все время на грани смерти.
А. Ч. То есть для вас смерть Блока — это тоже самоубийство, да?
А. С. Где-то да. Он ведь с ума сошел. Как зрелищник.
А. Ч. А в прозе есть зрелишники?
А. С. В прозе нет. Там другое. Я люблю так называемую утрированную прозу. И не очень люблю правдоподобную…
А. Ч. Реалистическую?
А. С. Реалистическую. То есть я люблю Лескова, Достоевского, Гоголя. И холоден к Тургеневу, Льву Толстому и даже Чехову.
А. Ч. А к Пушкину?
А. С. Ну, Пушкин… (Смеется.) У Пушкина, конечно, проза не утрированная… Настоящая проза началась с Гоголя, с утрированной прозы. А у Пушкина — только подходы… Хотя гениальная проза, но…
А. Ч. Вот когда пушкинская норма распалась — и при Гоголе постдекабристская Россия пошла на то, что вы называете утрированность… На каторгу, в революционные кружки и в конце концов к большевизму, к утопии…
А. С. Ну почему… Господи, ведь большевизм — это очень часто посредственность прозы, так сказать, внешнее правдоподобие. Ведь даже тот же соцреализм — это же не утрированная проза… Это немножко как Чехов, немножко как Лев Толстой и много-много как Державин.
А. Ч. Как кто?..
А. С. Державин. Я шучу. Но ведь это безвкусная проза…
А. Ч. Щедрина вы не назвали. Почему?
А. С. Ну тогда любой сатирик — утрированная проза… Сатирическая составляющая — это не обязательно. У Зощенко я люблю не сатирические вещи, а трагические. Например, книжку «О чем пел соловей…»
А. Ч. Ну хорошо. А кто же из прозаиков вам наиболее близок в XX веке?
А. С. Бабель.
А. Ч. Первое имя?
А. С. В XX веке — да. А вообще большая проза — это Гоголь.
А. Ч. Но мы все-таки договорились, что говорим об итогах этого века… Платонов рядом с Бабелем встает?
А. С. К сожалению, нет.
А. Ч. Неужели?
А. С. Да. Он для меня слишком сентиментален. Я бы сказал, что это такой социалистический сентиментализм.
А. Ч. Это Андрей-то Платонов? С «Котлованом»?
А. С. Ну с «Котлованом». Бабель — утрированная проза. А Платонов не настолько меня задевает. Я знаю, что это хороший писатель. Но не настолько…
А. Ч. Так кто, кроме Бабеля?
А. С. Тынянов. «Смерть Вазир Мухтара».
А. Ч. Одна книжка?
А. С. Не одна. Еще две-три. «Киже»… Но не «Кюхля». С него он начинал…
А. Ч. А более близкие к нашему времени прозаики?
А. С. Я больше люблю поэзию XX века, чем прозу.
А. Ч. Удивительно. Вы же не стихотворец.
А. С. Я филолог. Я люблю модернизм. Да, Набокова я забыл… Как прозаика.
А. Ч. Значит, ваша троица — Бабель, Тынянов и Набоков?
А. С. Да, хотя это не окончательно.
А. Ч. То есть это говорит не филолог, а читатель и писатель Андрей Синявский. Но — почему Набоков? Я-то его люблю почти до потери пульса. Но многие говорят, что он холодный, сконструированный, манерный. Безумно не любят «Лолиту».
А. С. Ну, «Лолиту» я тоже не очень люблю. «Дар» — гораздо больше.
А. Ч. Глава о Чернышевском вас не коробила?
А. С. Слегка коробила.
А. Ч. То есть вас, автора «Прогулок с Пушкиным», коробил ваш же предшественник?
А. С. Ну и что?.. Я к Чернышевскому плохо отношусь, я его терпеть не могу… Но все-таки меня коробило, что Набоков смеется над потерпевшим… Над ссыльным…
А. Ч. А в чем все-таки Набоков, с вашей точки зрения, некорректен? Ведь все претензии, которые можно предъявить к его главе о Чернышевском, можно предъявить и к вам?
А. С. Чернышевский, конечно, плохой писатель. Много плохих писателей было в XIX веке, но с тяжелой, даже трагической судьбой. И когда хиханьки и хаханьки вокруг судьбы, меня это коробит. Вот и все.
А. Ч. То есть, если бы Набоков принес «Дар» в «Синтаксис», вы бы поступили так же, как другой парижский журнал, который, опубликовав роман, изъял главу о Чернышевском?
А. С. Нет, конечно. Оттого, что я не согласен, я ведь не буду гениальное произведение портить.
А. Ч. Имеет писатель право на такой суд, если даже и вас коробит? Вас, человека очень широкого.
А. С. Нет, почему… Имеет… Понимаете, ведь не обязаны все разделять точку зрения, которую высказывает писатель…
А. Ч. Но мы авторитарны…
А. С. Вот говорят, а Лев Толстой… Ну и что, что Лев Толстой? Мы не обязаны даже у гения перенимать до мельчайших подробностей его взгляды или идеологию.
А. Ч. Что же вас поражает в Набокове?
А. С. Острота зрения… Кстати, я люблю «Камеру обскура». Люблю «Король, дама, валет…». «Защиту Лужина» меньше, потому что про шахматы… А если из века выйти в тысячелетие, то я люблю фольклор и древнерусскую литературу… Люблю протопопа Аввакума. Это для меня тоже утрированная проза… Ну вот, я сам вышел за рамки века… Толстой, вероятно, больший писатель, чем Лесков. Но люблю я Лескова. А Набоков больше всего любил «Анну Каренину». Ну и что? На то мы и разные люди.
А. Ч. То есть ранжированного Парнаса и Олимпа в литературе нет?
А. С. Да, конечно. А зачем?.. Вот я своими «Прогулками с Пушкиным» оскорбил такого очень хорошего пушкиниста Валентина Непомнящего. Почему? Да потому что он Пушкина превращает в Христа. А Пушкин — не Иисус Христос. Пушкин — это Пушкин.
А. Ч. Ну нет, он Пушкина в Христа не превращает. В крайнем случае — в Сергия Радонежского… А что, сильно нападал?
А. С. Да нет, но в том смысле, что моя книга его оскорбила. Ну кто-то любит ее… Кто-то не любит… Это ведь нормально. Я только против штампов… Вот когда Исаич (Солженицын. — А. Ч.) стал утверждать, что я ненавижу Пушкина… Но это его зловредство… Исаич знал, что я самого его не люблю…
А. Ч. И как прозаика тоже?
А. С. Я неплохо отношусь к «Одному дню Ивана Денисовича» и к «Архипелагу…». Но у «Архипелага» скорее публицистическая, чем художественная ценность. А эти его романы колоссальные… «Колесо красное» терпеть не могу… И не скрываю. Часто говорю. А Никита Струве доносит. И Исаич мне платит тем же…
А. Ч. И впрямь странно. Солженицын — тот, кто, может быть, больше всех сделал для сокрушения коммунизма, а впечатление такое, что структура писательского мышления у него соцреалистическая, советская…
А. С. Да, он писатель соцреализма. С непременным положительным героем…
А. Ч. Но ведь это удивительно, что есть огромная личность — публицистическая и проповедническая, с очень хорошим художественным, писательским началом, и потом все это как будто куда-то делось… Куда?
А. С. Да проповедник съел.
А. Ч. Писателя?
А. С. Писателя. Так было с Гоголем, Толстым, Маяковским, даже с Пастернаком. Что такое «Доктор Живаго»? Эго слабый гениальный роман.
А. Ч. Слабый роман гения?
А. С. Нет. Слабый гениальный роман. Там прекрасные стихи. Отдельные прекрасные куски. Но вместе с тем…
А. Ч. Что же это за чума такая на русскую литературу — утилитарность?
А. С. Наверное, он решил под конец жизни высказаться. Ну высказался. И обо многом правильно… Ну и что? Он уже не мог писать стихи. Вернее, мог, но ему казалось, что все это чепуха. И он зачеркнул свою поэзию… На основании романа… Он писал в письме, что нужно учиться у Симонова… Вообще эти его завихрения…
А. Ч. А кто из стариков был без завихрений? Чуковский?
А. С. Тоже с завихрениями. В его «Дневнике» есть такие страшные страницы… И о Пастернаке тоже…
А. Ч. А из наших современников никто не встает на уровень Бабеля, Тынянова и Набокова?
А. С. Пока нет. Совсем другой масштаб. Я могу только сказать о своих симпатиях. Я люблю Таню Толстую, Кураева — «Капитан Дикштейн»… Замечательная повесть…
А. Ч. С девятнадцатым веком все понятно. С двадцатым — нет. Хотя осталось всего четыре года, и вряд ли мы увидим явление сверхмощных звезд… Когда-то, году в 91-м, вот в этой же комнате вы мне сказали, что ждете расцвета русской культуры. О том же в те годы говорил мне Д. С. Лихачев. Тогда это звучало смело, но было похоже на правду. Но история пошла так, что о расцвете говорить не приходится…
А. С. Я рассуждал, наверное, слишком абстрактно. Советская власть страшно мешала культуре. Я не думал, что доживу до конца советской власти. Я думал, что после моей смерти должно пройти еще лет сто, сто пятьдесят… Понимаете, советская власть столько вреда причинила культуре, что казалось — устрани ее, и сразу будет расцвет. Наверное, это рассуждение было ошибкой. Расцвет культуры, видимо, складывается из многих, даже из непознаваемых вещей. Почему появился Пушкин? Мы не знаем.
А. Ч. И почему радом Гоголь, Баратынский, Лермонтов, Тютчев…
А. С. Но что все-таки мне несомненно, хотя ситуация очень печальная — и в плане культурном, и житейском, и социальном… Несомненно, что что-то еще должно принести свои плоды. Потому что нация великая. Потенциал колоссальный… Если б она оказалась бесплодной… Но я просто в это не верю… Опыт разочарования должен принести плоды. Мы пережили в XX веке разочарование не только в коммунизме, но и в революционном движении. Сейчас говорят «А зачем декабристы? Ведь с них все и началось! Они во всем виноваты…» Я встречал таких людей… С одной стороны — эти разочарования, с другой — разочарование в капитализме. Потому что повторять всю эту волынку с Первоначальным накоплением… Ну богатеть… Какой здесь идеал? И для Запада давно не идеал… Разочарования заставят людей думать. Приведу такой пример… После разочарования во Французской революции во Франции начался литературный расцвет. Это начиная с романтиков, с Шатобриана… И дальше — весь девятнадцатый век — это опыт разочарования. Представляете, чтобы Флобер или Бальзак были очарованы капитализмом?.. Смешно?
А. Ч. Так что же есть литература? Духовное противодействие пошлости? Некая попытка противодействия хаосу путем его гармонизации? Попытка перебороть словом то, что не перебарывается в первой реальности?
А. С. Я думаю, что однозначного ответа еще нет. Литература очень часто непредсказуема. Потому оказывается, что страшное разочарование для нее как раз и благодетельно. А в другой ситуации — никак не благодетельно. Для России естественно развитие литературы. А в какой-нибудь Голландии величайшая живопись, а литературы мы не знаем или почти не знаем…
А. Ч. Андрей Донатович, в чем же тогда тайна литературы? И что такое литература?
А. С. Рабочее объяснение есть…
А. Ч. Ну пусть рабочее.
А. С. Репетиция Воскресения. А Воскресение — это Преображение… Если Воскресение заложено в Божественном замысле всего мира, то может ли это никак не отразиться на человеческой культуре?
А. Ч. Вот и объяснение, почему литература вне морали. Она просто выше морали.
А. С. Да. Кроме того, литература может поворачиваться разными сторонами. Такими, о которых в прошлом не подозревали.
А. Ч. Значит, двадцать первый век, может быть, станет корить нас за то, что мы кого-то проглядели…
А. С. Ну конечно. Сплошь и рядом так и бывает.
А. Ч. И осмысление двадцатого века еще впереди?
А. С. И не только двадцатого.
А. Ч. Мне показалось, что вы подумали об Архангелогородской летописи, которую мы с вами вчера читали вслух.
А. С. Она меня просто поразила. Я сам никогда этим не занимался. И вряд ли успею…
• Беседовал Андрей ЧЕРНОВ.
Фонтене-о-Роз, октябрь 1996 г.
НОВАЯ ГАЗЕТА №19 (439) 12–18 мая 1997 г.
Абрам Терц. Фонтене-о-Роз. Весна 1991 г. Фото Андрея Чернова.
(А шестиконечную звезду добавила отраженная в стекле фотовспышка.)