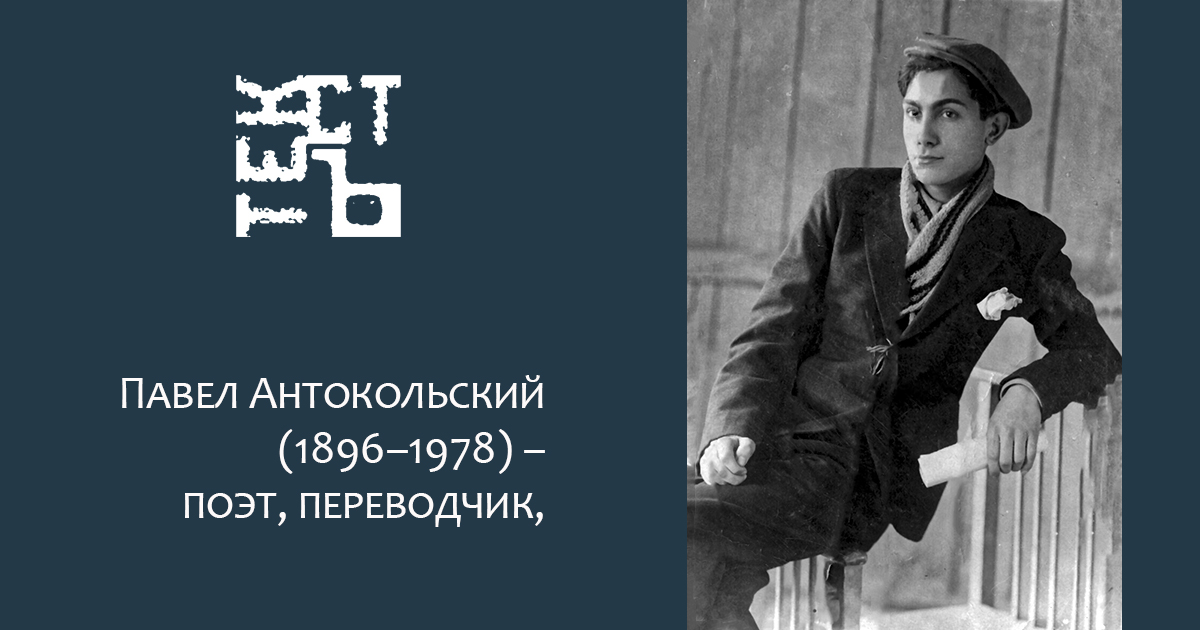* * *
Кровь да пепел, да зола.
Бес с державою.
Золотые купола–
грязно-ржавые.
Не отмыть, не отскоблить.
Не отмучиться.
И обратно полюбить
не получится.
Грязно-ржавая вода.
Все помечены.
Мы, как псы, ползли сюда,
до Неметчины.
Кто с котомкой через горб
прочь от родины.
Кто, как черт, красив и горд.
Кто юродивый.
Кто глаголом сердце сжёг,
кто причастием.
Кто на ложь себя обрёк
неучастием.
Золотые купола,
в небе сгнившие.
А для чёрного ствола
все мы бывшие.
Не на счастье, на беду–
шваль да пьяницы.
Но наколку не сведу.
Пусть останется.
* * *
За высокими заборами,
за пустыми разговорами,
за бессонными ночами,
за погасшими свечами,
за осколками печали,
за обломками любви
чтоб со смертью не венчали–
не дыши и не живи.
За далёкими просторами,
за глубокими озёрами,
за морями-янтарями,
январями, якорями,
за глазами в чёрной яме
сколько счастье не лови,
чтобы сделаться упрямей–
не дыши и не живи.
Это конница-трезвонница
все за нами мчится, гонится,
и с наскоку, и с разбегу
разрывает рай и негу
то по чёрному по снегу,
то средь красных облаков.
И конца не будет бегу
степью проклятых полков.
ЯНВАРИ
Дотянуть бы до рассвета, до зари…
Ах, какие в этом веке январи!
То без снега,
то без слога,
то без сна,
то без бега,
то без Бога,
то без дна…
Ах, какие в этом веке январи!
Говори со мной, родная, говори!
Пусть скрипит пружиной ржавая кровать,
попроси меня глаза не закрывать!
Попроси меня дышать, пока могу!
Докторам скажи, что я не убегу.
Говори со мной о синих о морях!
Обещай мне не замёрзнуть в январях!
Поклянись мне не бояться январей!
Говори со мной о вечности скорей!
Что за вечность-скоротечность на дворе?
Что за дождь колотит в окна в январе?
Что за гостья в дверь стучится– посмотри!
Ах, какие в этом веке январи…
МАНДЕЛЬШТАМ
Я не был там,
где Мандельштам
валился навзничь.
Я не ходил по тем местам,
где шаг до казни.
По тем местам,
по тем мостам,
где реки стылы.
Где от поста и до поста –
кресты-могилы.
Там не сплетался я с пургой
в смертельной пляске,
где чёрен был затвор тугой,
который лязгал.
Я не был там,
где Мандельштам
вмерзал в дорогу.
Где поп поклоны бил, но сам
не верил богу.
А все же снег. В нем россыпь бед.
И строчек россыпь.
И кто-то шепчет мне вослед:
«Спасибо, Осип…»
И свет от лампы не зачах.
И греет слово.
И мать качает на руках
меня. Живого.
СВЕЧА ПОГАСЛА
На столе свеча горела, как у Пастернака.
Окна схвачены морозцем, стужится февраль.
Что ты, мама, что ты, папа, я по вас не плакал.
Это иней под глазами, а в глазах хрусталь.
Это иней под глазами, а в глазах усталость.
Ходят все по кругу волчьи ночи февраля.
Знаешь, папа, знаешь, мама, вот что мне осталось:
чёрный ворон, снежный ветер, белая земля.
На столе свеча горела, а потом погасла.
В печке теплилась надежда, а теперь – зола.
Слышишь, папа, слышишь, мама, надо мной не властны
ни дороги, ни остроги, ни колокола.
СТИХИ О СЕДОМ МУЖЧИНЕ
Мужчину украшает седина.
А ордена – давно уже железки.
Поступки не остры, слова не резки
и даже половинчата вина.
Да что вина – не нужно и вина,
поскольку не разбавленное – горько.
Но седина, одна она – и только! –
мужчину украшает седина.
Я знал таких: круты, как на подбор,
плечом к плечу, в сияющих мундирах,
не смели рты раскрыть при командирах,
переводили в шёпот разговор.
А генералы были невпопад,
пропахшие не порохом – ванилью.
И вот мужчины перед этой пылью
сверкали побрякушками наград.
Но был один, который знал любовь
и не бросал в атаки лобовые
своих солдат: они ему живые
дороже были цинковых гробов.
Да, был один. Он выпил всю до дна
вину свою – горчайшую на свете.
И только он один сказал: «Не смейте!»
Мужчину украшает седина.
Он был седой, как пепел, как зола,
как наледью прихваченное поле.
Он так и вышел, чтоб не видеть боле
богатства генеральского стола.
И как он шёл, смотрел я из окна,
огромного окна в банкетном зале.
Он шёл один. А нас к столу позвали.
Мужчину украшает седина.
КРИК ЧАЕК
Крик чаек отчаян,
и утренний чай не допит.
И белый отчалил
корабль мой из бухты обид,
из бухты печалей
на склоне уставшего дня.
Крик чаек отчаян,
они провожают меня.
Над морем с надеждой
на счастье плывут облака,
но парусник снежный –
последний приют моряка.
И душит истома,
и мне не добраться до звёзд.
Ни вздоха, ни стона –
ни оклика – только норд-ост.
Рассветы встречая,
сливаются в вечность моря.
Крик чаек отчаян.
Которая чайка моя?
НОСКИ
На праздник 9 мая,
за павших стакан поднимая,
надел он пиджак без наград
(а если точней – без медали,
одной, ему больше не дали)
и выключил к чёрту парад.
На закусь – в мундире картофель.
А сталинский щурился профиль
с медали, лежащей сто лет
средь рюмок и блюдец в серванте.
Хотите Победы? Да нате!
Но горько во рту от побед.
И хочется прыгнуть от боли
с разбегу на минное поле,
Да как разбежаться без ног?
Под корень их вырвала мина…
Вдруг жизнь, пролетевшая мимо,
в дверной позвонила звонок.
– Входите! – шепнул он из кухни –
Чего там? Не заперто все ж!
Глаза покраснели, опухли,
и память рукой не смахнёшь.
Он выглянул. Там на пороге
топтался «культурный» один.
Все цело: и руки, и ноги;
под кепкой не видно седин.
– Вы кто?
– Я из мэрии, здрасьте!
Позвольте от имени власти
поздравить, и пусть будет мир!
Чтоб завтрашний день не был серым!
Открытка подписана мэром,
и вот ещё Вам сувенир!
И сразу за дверью растаял
посланец с далёких планет,
а слева у двери оставил
украшенный лентой пакет.
На праздник 9 мая,
погибших друзей вспоминая,
шатаясь на двух костылях,
он шёл коридором недлинным
по минам,
по минам,
по минам,
пригревшимся в русских полях.
По минам,
по минам,
по минам
он шёл, пробирался, как мог.
И щурился Сталин незримо,
не веря в отсутствие ног.
Ему девяносто четыре.
Ни внуков, ни правнуков нет.
Медаль среди рюмок в квартире.
И слева у двери пакет.
И холодом майским подуло.
Ах, как бы не взвыть от тоски!
Дошёл и в пакет заглянул он.
В пакете лежали носки.