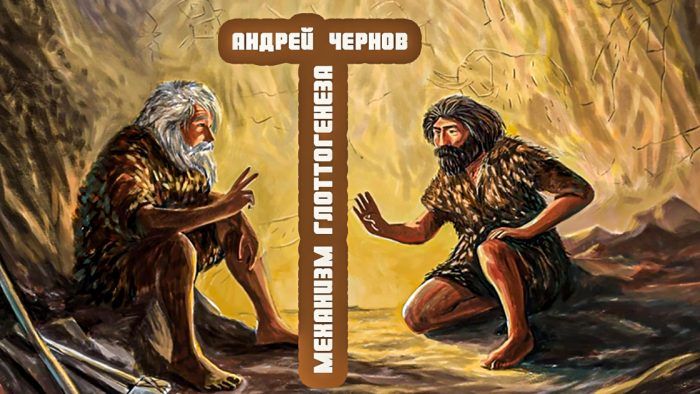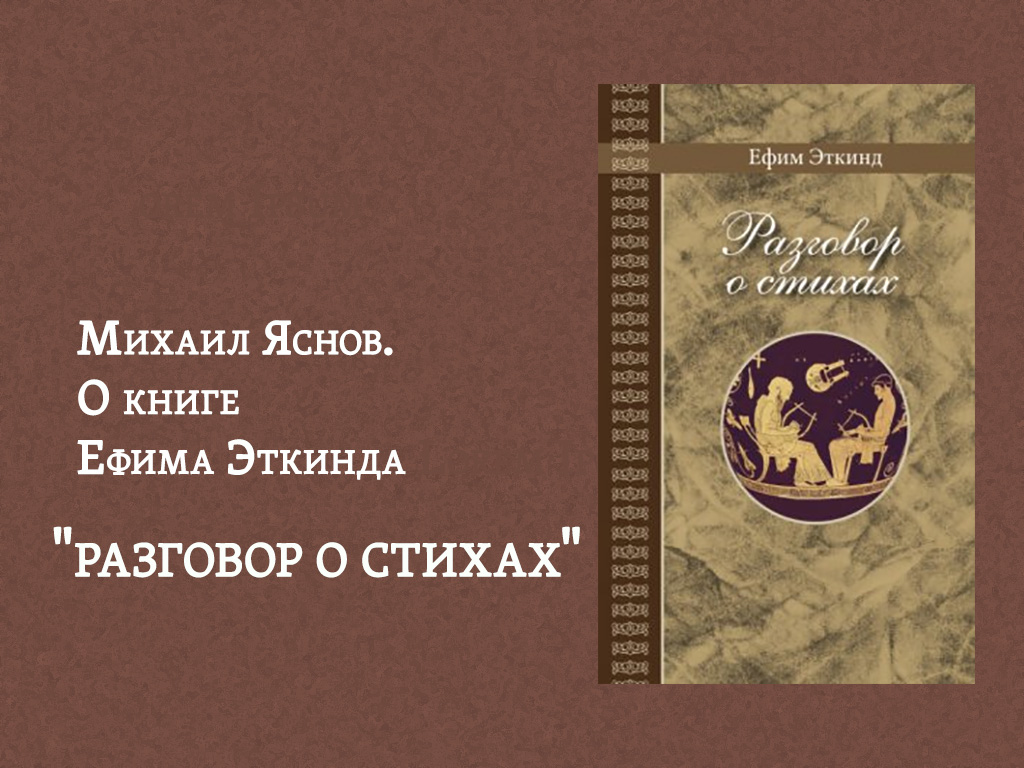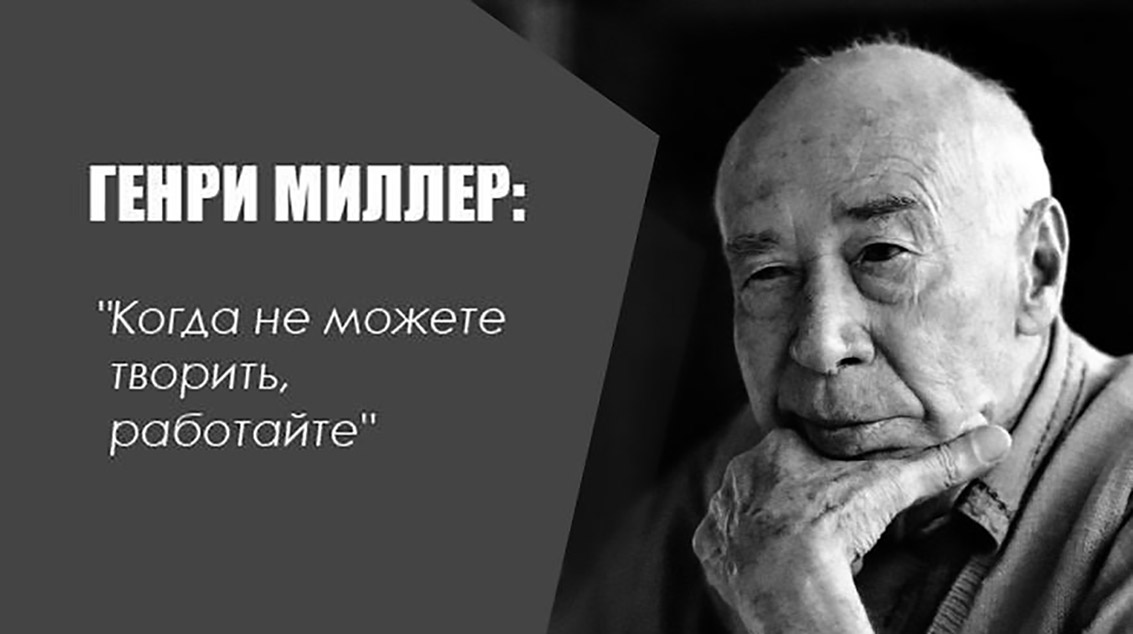(из книжки «Дневная поверхность: археологический азбуковник»)
Способ, как творил Создатель,
Что считал Он боле кстати –
Знать не может председатель
Комитета о печати.
(А. К. Толстой. Послание к М. Н. Лонгинову о дарвинисме. 1872.)
В школе нам говорили, что человек научился пользоваться огнем, когда молния ударила в дерево и начался лесной пожар. А некто умный сообразил, что огонь согревает, и принес горящую ветку в пещеру.
То, что во время пожара всё живое бежит от огня, наших преподавателей почему-то не смущало.
Человек редко получает тот результат, на который рассчитывает. Когда–то он хотел заострить кромку каменного резака, а искра подожгла подстилку из сухой травы.
Редко-редко, но так случается. Просто не все камни годятся на роль кресала. Для разжигания огня нужен серный железный колчедан – пири́т. Греческое πυρίτης λίθος, – это буквально «огненный камень». Для ударно-кремневых замков ружей и пистолетов еще и XIX веке в ходу были пиритовые вставки.
Поддерживая рукотворный огонь в первобытной пещере, наш предок должен был его кормить. Чем? Разумеется, деревом – сучьями и корой. Но ещё и тем, что ел сам – тем, что добыл во время охоты. А потом кто–то доел то, что не стал доедать огонь, и оказалось, что расщепленный жаром животный жир усваивается человеческим организмом на порядок лучше, чем сырое мясо. И, разумеется, человек приписал эту силу очагу. И обожествил огонь.
Тот же эффект внезапного возгорания повторился, когда сотни тысяч лет спустя человек захотел просверлить отверстие в камне, чтобы насадить камень на рукоять. И дело пошло веселее: можно было не бояться, что очаг погаснет. Насыпь в каменную лунку сухих былинок, и высверлишь огонь. Одну такую каменюгу, килограммов на шесть, Евгений Рябинин показал мне на Любше. Размером и объемом лунка на ней была ровно с наперсток.
Позже из лука возникла лира. А когда человек просверлил кость, то получил свирель.
Искусство – это язык. Причём любое искусство. Не важно, музыка это, живопись, балет или дизайн. Само рождение человеческого языка было творческим актом. Хотя, как ни парадоксально, от человеческого замысла этот акт не зависел.
Человек вовсе не собирался заговорить с другим человеком. Наш ещё немой предок пытался решить совсем другую задачу – не столько интеллектуальную, сколько задачу выживания.
Гипотез о происхождении языка много, но ни одна не раскрывает механизма глоттогенеза. Попытаемся представить, как это могло происходить.
В фольклоре многих народов встречается такой мотив: когда–то люди знали язык зверей и птиц, а потом забыли. И ещё античные философы утверждали, что человеческий язык родился из звукоподражания. Вот и в Библии первый поступок человека состоит в том, что он даёт имена животным.
Попробуем перевести мифологическое знание на естественнонаучный язык.
Природа дарует слабому шанс на выживание, и этот шанс называется мимикрией.
Мимикрия бывает цветовой (мотылёк сливается со стволом дерева), формальной (насекомое изображает из себя сухой сучок того же дерева) и ещё – звуковой. Известно, что некоторые домашние коты презирают мышей, но умеют чирикать по-воробьиному. И с пропитанием проблем у них не бывает.
Но это – исключение, ведь звуковая мимикрия известна прежде всего птицам. Сидит в кусте на яйцах эдакая невзрачная пигалица и шипит по-змеиному…
Видимо, нашему предку от природы достался отменный артикуляционный, дыхательный и голосовой аппарат. И, конечно, у прачеловека уже был свой «первичный» язык. Такой же, как у других приматов. Язык, состоящий из перемещённых аффективных восклицаний, проще – междометий.
У гамадрилов есть сигнал опасности, который для нашего слуха звучит как «ак!» Той же природы и человеческое междометие «ах!». Когда мы пугаемся, мы всегда так говорим. (Хотя в иных случаях лучше бы помолчать.) Но если человек, пусть пока и не умевший говорить на человеческом языке, видел, что опасность грозит другому, он мог крикнуть «ах!», и это было сигналом – смотри в оба! Такие восклицания и называют «перемещёнными».
При помощи междометий можно выразить любое чувство (гнев, угрозу, приязнь), передать команду или призыв. Всё это реализуется на «первичном» животном языке, состоящем из перемещённых аффективных восклицаний. Но на нем можно транслировать лишь набор эмоциональных состояний, просьб и приказов. Ни синтаксиса, ни членораздельности, ни даже простейшего описания окружающего мира пока не существует.
Но появляется звуковая мимикрия и сразу же повторенный за зверем рык становится именем (и образом!) зверя. И это первый камешек в языковом фундаменте человеческой речи.
К передаче образов «первичный» язык не приспособлен. Это язык светофора, язык эмоций и приказов – сумма запрещающих и разрешающих голосовых знаков.
У курицы есть два разных кудахтанья для опасности, грозящей с земли (от человека или животного) и с неба (от ястреба или коршуна). Но куриный язык способен транслировать не образ врага, а только направление его атаки.
Поверив Библии, и переведя с языка мифопоэтического на язык естественнонаучного знания, можно догадаться, что человек начал свой путь на Земле с освоения иностранных языков, то есть с языков других животных.
А иностранный язык как раз и нужен, чтобы общаться с иностранцами.
Если ты дикой кошке (львице или тигрице) можешь сказать по–кошачьи, что ты о ней думаешь, кошка ещё сама подумает, стоит ли с тобой связываться. И тем легче рыком льва отпугнуть шакала.
Воспроизведение прачеловеком кошачьего языка – типичная мимикрия, рассчитанная на общение между тобой и зверем. И когда наш предок в морду лютой смерти произнёс её же «мяу!», он думать не думал, что сам сделал первый шаг к принципиально новому, уже человеческому языку. Но в другой раз в тех же зарослях он успел предупредить своего зазевавшегося товарища: «Ак!.. Мяу!..»
Предположим, что второе слово он сказал так, как произносит его не львица, а пантера. И другой человек, который копался в траве под деревом, понял, что опасность грозит именно от пантеры, и что пантера сидит прямо над ним на толстой ветке.
Рык зверя – его знак. Но знак чего бы то ни было – подразумевает связь с образом, а, значит, и с тем, что за этим образом стоит.
Для самой пантеры, уже изготовившейся к прыжку, окликание её по имени было малоприятной неожиданностью. И в тот раз она отступила. А люди вернулись к сородичам, и тот, кто должен был погибнуть, повторил фразу своего спасителя.
И все поняли, что произошло. Это был первый на Земле рассказ. Всего два слова нечленораздельного ещё языка, но в них был заключён великий гуманистический смысл – целая поэма о победе над смертью, о мужестве и взаимовыручке, гимн слову и разуму.
Не понимая, где кончается живая природа и начинается неживая, человек освоил язык камня и дерева, ветра и воды. И сам не заметил, как мимикрийная звукоимитация сменилось имитацией артикуляционной. Ведь при помощи голосового аппарата – языка (того, что во рту), губ и горла – можно звуком воссоздать узнаваемые признаки некоего предмета или явления.
Этот переход, скорее всего, не замеченный самим предком человека, был необходим, чтобы обозначить неживые предметы: сначала звучащие, а потом и немые: так, к примеру, при помощи голоса одним движеньем языка можно имитировать образ плеснувшей в воде рыбы. При посредстве горла и губ назвать каплю воды водой: «буль» – капля упала в воду, «кап» – разбилась о твёрдую поверхность. И передать на расстояние речевой коммуникации куда более абстрактные образы, имитируя артикуляцией некий характерный признак предмета или явления.
Постепенно этот первичный словарь увеличивался и усложнялся. Скажем, издав горловое «кх», можно присоединить к нему после огласовки носовое «н», и тем имитировать рост злака или восход солнца. (А проделай то же в обратном порядке – получится, к примеру, имя ночи или смерти.) Появилась огласовка – первичные слоги.
Не звукоподражание, а именно артикуляционная имитация потребовала от речи членораздельности. А, следственно, и привела к появлению протофонем. Предположим, что сначала их было не более семи: носовые (н), цокающие (ц–ч), губные (б–п–м), зубные (д–т), языковые (р–л), свистяще–щелевые (с–ш–щ), горловые (г–к–х). И когда возникли эти оппозиции звукоизвлечения, речь стала членораздельной.
Язык – не искусственная, а естественно сложившаяся система (как, скажем, и само мироздание). И потому можно утверждать, что развитие языка (и даже всех языков человечества) на некоем энном витке повторяет те эволюционные закономерности, которые свойственны всей спирали эволюции космоса. Из–за этого язык как система обладает ещё одной уникальной способностью – возможностью на языковой модели сконструировать процессы будущего или прошлого.
Речь о том, казалось бы, необъяснимом механизме пророчества, который известен всем народам земли. (Иосиф Бродский говорил, что поэт – орудие языка.)
Любая система поначалу развивается от простого и симметричного к сложному и ассиметричному. Поэтому сотни тысяч лет человеческая речь оставалась стихоподобной.
Первые слова человека были, разумеется, односложными, а предложения двух– и трёхчленными. Модель такой речи – метроном: «Раз–два. Раз–два–три. Раз–два–три. Раз–два…»
То, что называют психологическим параллелизмом, лишь усиливало метрическую правильность речи. Так дети учатся грамоте со стихоподобных фраз: «Мама мыла раму…»
Сотни тысяч лет человек оставался анти–Журденом: что ни скажи – всё стихи. В сочетании с поясняющим указательным жестом это дало то, что Веселовский назвал первобытным синкретизмом. Так возникло коллективное пещерное действо, в котором слиты песня, танец, театр, университет. При однослоговом слове и должен был развиться тон (иначе бы омонимы перекрыли бы путь коммуникации), то есть возникла песня.
А потом язык стал несимметричным: «Раз–два. Раз–два–три–четыре–пять–шесть–семь. Раз–два–три. Раз–два–три–четыре. Раз. Раз–два…» Попробуйте–ка это сплясать!..
А если самому не сплясать, то и ребёнка ничему не научить. Тут-то на помощь человечеству и пришли те, кто мог синтезировать мерную речь из немерной – шаманы и запевалы первобытного хора. Словом, – стихотворцы.
И как палка–копалка, подобранная в лесу, становится ценностью в поле, так и ритмическая речь на фоне неритмической бытовой стала осознаваться как сущая драгоценность. То есть храниться. Так и возник сосуд для внеличностной памяти человечества – фольклор.
Прав Геккель в 1866-м сформулировавший: «Онтогенез повторяет филогенез».
Моя дочь Катя в день рождения моего внука Филиппа, сообщила, что, отказываясь гулять в дождь, он предупредил: «Кап-кап бе!» А поскольку словом «бе» он тогда называл всё плохое, это высказывание, построенное по всем правилам языковой коммуникации, прозвучало весьма убедительно. Филе в тот день исполнилось два года.
Если бы доминирующей функцией языка был простой обмен информацией, то, достигнув уровня адекватного симметричного обмена, процесс на том бы и остановился. Но мне представляется, что причина нелинейной многомерности языковых моделей укоренена в начальной несимметричности звуковой мимикрии, в коммуникации первочеловека не с другим первочеловеком, а с четырехлапой смертью. Именно тогда основной языковой функцией стало психическое воздействия словом на того, кто заведомо сильный тебя клыками, ногами, лапами.