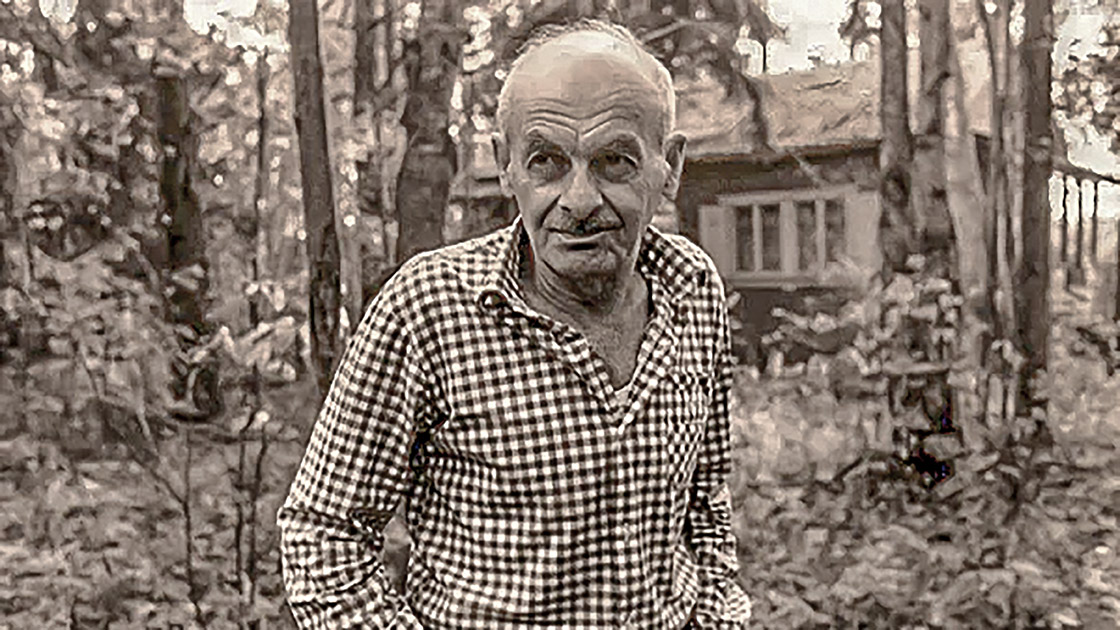Маша Карп
Памяти Ирины Ниновой
Мария Карп переводчик английской и немецкой поэзии и прозы на русский язык. Опубликовала переводы многих писателей, в том числе Вирджинии Вулф, Джорджа Оруэлла, Дилана Томаса, Х.У. Одена, Элизабет Дженнингс, Алисы Манро, Андреаса Гриффиуса и Николая Ленау. Автор многих переводных статей. Член Союза писателей Санкт-Петербурга и Гильдии литературных переводчиков в России. Член Британского института лингвистов. Председатель Пушкинского клуба в Великобритании.
«А кто она по национальности?» – спросил меня как-то один Иришин поклонник. Я честно ответила: наполовину русская, на четверть еврейка, на четверть болгарка. «Да? – изумлённо протянул он, – а я думал француженка…» Разговор происходил в 1987 году, и «француженка» звучало почти как «инопланетянка».
Ириша, и в самом деле, казалась отчасти обитательницей другой цивилизации. Помимо внешности это выражалось в особенной незаурядной манере говорить, в которой замечательно сочетались слова из самых разных рядов – от просторечных до научных, отчего вся речь окрашивалась тонкой иронией. В начале восьмидесятых, проходя мимо пригородного деревянного магазинчика, мы увидели, что к одному его прилавку на улице стоит очередь часа на полтора, а к другому – минут на двадцать: в первом давали творог и сметану, во втором – только творог. «А, – заметила Ириша, читавшая много научной лингвистической, почти философской литературы, – значит, сметана является центром аттракции».
Позднее она рассказывала мне, как один ее знакомый почему-то удивился тому, что она употребила слово «паллиатив». «А я как раз очень люблю слово «паллиатив», – недоумевала она. – Ведь все – паллиатив».
В этом не было позы или пижонства, просто она постоянно пыталась осмыслить жизнь, несовершенство которой для её романтического сознания было невыносимым. В семидесятые, когда люди, знакомые нам с детства, стали стремительно исчезать, Ириша вывела формулу, сохранившую свою актуальность на годы: «Все или умирают, или уезжают».
Закрытый мир, в котором прошли наше детство и юность, внезапно распахнулся для неё в 22 года, когда она на несколько месяцев поехала с университетской группой в Англию. Помню, как мы, невыезжавшие, закидывали ее по возвращении вопросами, а она отвечала медленно, как будто с запинкой, стараясь не поддаваться уже ожидаемым в вопросах стереотипам. «Ну а вот наши старушки в платочках, какие они там?» – спросили ее. «А там они такие, как у нас библиотекарши», – ответила Ириша, точно и не без иронии описав «прилично» одетых и причёсанных обыкновенных пожилых англичанок.
Острота взгляда, чувство юмора и собственная упрямая оригинальность объясняют и выбор произведений, которые она переводила. Она начала с ранней пьесы Ионеско «Король умирает» (1962). Театр абсурда с трагикомическими поворотами, с противопоставлением казённо высокопарной и обыденной речи, с постоянной иронией – был для Ириши совершенно естественной стихией. Филологическая одарённость и грамотность позволяли ей переводить как будто без особого труда, но неудовлетворённость достигнутым и упорство заставляли переделывать текст до бесконечности.
Это особенно проявилось в главной ее работе – переводе «Автобиографии Алисы Б. Токлас» Гертруды Стайн, опубликованном в сокращённом виде в питерском журнале «Нева» в 1993 году, а полностью – посмертно (Санкт- Петербург, Инапресс, 2000). Незаурядность оригинала как нельзя лучше подходила характеру переводчицы.
Книга Гертруды Стайн написана от лица ее компаньонки Алисы Токлас, о Гертруде Стайн там говорится в третьем лице, но на самом деле это, конечно, автобиография самой Гертруды Стайн, данная через автобиографию подруги. Уже в этом – игра, но ещё больше игры в том, что, как будто рассказывая о жизни Стайн в Париже и о ее дружбе чуть не со всеми знаменитыми художниками и писателями двадцатого века, книга почти все время дразнит читателя, распаляя и не удовлетворяя его воображение.
Кое-что о художниках и писателях из неё узнать, может быть, и можно, но главный ее предмет, как и в других книгах Стайн, – великие скрытые возможности английского языка, позволяющие извлекать дополнительное содержание из обыкновенных слов и оборотов. Этому научился у неё Хемингуэй, сумевший к тому же превратить её эксперименты с языком в книги, читаемые тысячами людей. Стайн это казалось профанацией искусства на потребу публике. Она оставалась в своей лаборатории, и, может быть, только «Автобиография Алисы Б. Токлас» – единственная небрежная и ироничная попытка сделать шаг навстречу читателю. Как передать такую прозу на другом языке? Ириша попыталась это сделать, точно представляя себе сложность задачи.
В статье, опубликованной в книге вместе с переводом, она писала: «… созвучность её творчества исканиям русской литературы первых десятилетий двадцатого века – несомненна. В самом общем смысле это созвучность творческих интенций – стремления явить новый образ мира в новом слове, обнажая формальные возможности языкового материала, конструктивные особенности, присущие языку, на котором пишется стихотворение, рассказ или роман, – чем, в частности, объясняются различия в результатах, поскольку особенности языка – это особенности мировосприятия». Дальше она сравнивает «богатые аналитические возможности английского, где построение фразы создаётся по преимуществу порядком слов, а развитая многозначность слова преодолевается в основном синтаксисом» с возможностями русского: «богатой русской флексией», использовавшейся футуристами; способностью русского синтаксиса к эллипсу, взятую на вооружение Цветаевой; желанием «вернуть именам вещей изначальный, прямой, полновесный смысл», свойственном акмеистам, и тенденцией «к странно и неправильно поставленному слову», вызывающей ассоциации с Платоновым и Добычиным.
«Гертруду Стайн, – заключает переводчица, – можно было бы назвать поэтом синтаксиса, потому что её проза держится на точности синтаксического, а значит, интонационного рисунка».
«Я родилась в Калифорнии, в Сан-Франциско. Поэтому я всегда предпочитала жить в умеренном климате, но на европейском и даже на американском континенте очень трудно найти умеренный климат и в нём жить». Так открывается автобиография, и сразу по-русски, как и по-английски, мы сталкиваемся не только с отсутствием запятой (Гертруда Стайн ненавидела запятые, и переводчице, отстаивавшей своё право обходиться без них и по-русски, пришлось выдерживать большие баталии при публикации в журнале), но и удивительным тоном, который Самуил Лурье, написавший послесловие к книге, назвал серьёзностью «почти наивной».
Не знаю, как в Гертруде Стайн или даже в Алисе Токлас, но в Ирише утончённость, даже изысканность, действительно, всегда сочеталась с простодушием. Став взрослой, она ненавидела абсурд советской повседневности, с трудом переносила рутину, глубоко чувствовала разочарования, но оставалась открыта радостям жизни и дружбы. Она, невзирая ни на что, надеялась, что сумеет найти подходящий для себя «климат и в нём жить».
Последнюю открытку я получила от неё из Милана, куда, уже тяжело больная, она ездила в центр по лечению меланом. Там ей сделали переливание крови (больше ничего уже сделать не могли), и вдруг ненадолго почувствовав себя получше, она была потрясена бьющей через край энергией летнего итальянского города.
Когда Ириша умерла, не дожив до тридцати шести лет, я часто представляла себе, как она, сидя в привычной позе где-нибудь на кровати, вдруг узнает о собственной смерти и, вздрогнув, говорит фразу, которую говорила довольно часто: «Слушай, какой ужас».