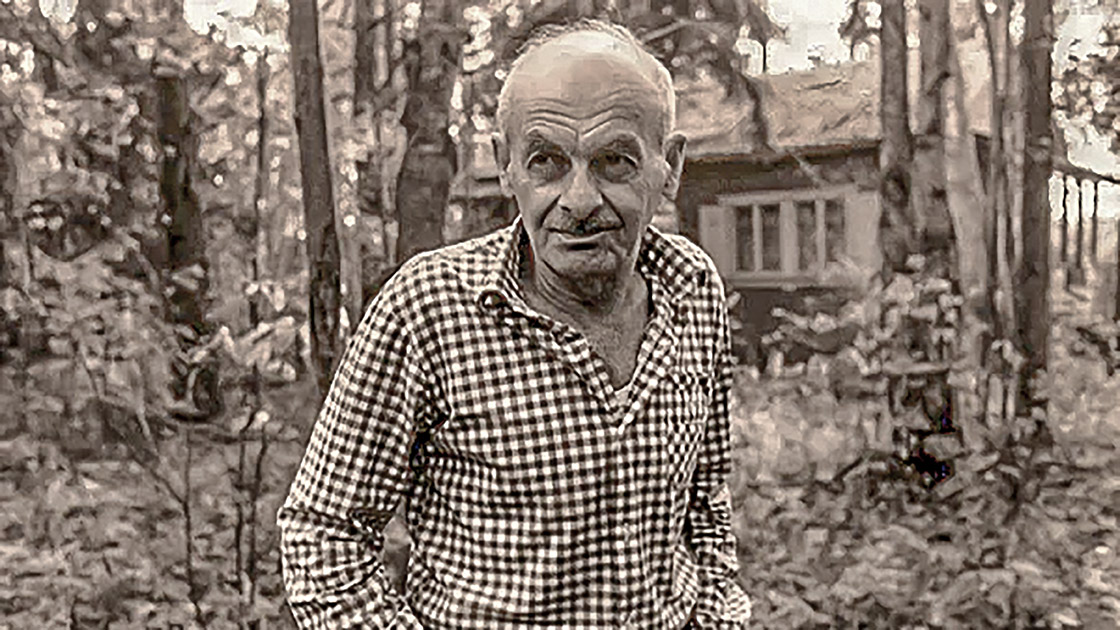Она красивая - ее, наверно, воскресят!
Маяковский
Я всегда любила жизнь, а потому терпеть не могла стихи. Я мечтала быть королевой, купающейся в роскоши и преклонении. Но когда я увидела, как слушают Богоборца, я поняла, что власть короля ничто перед властью гения. Я поняла, что всех вельмож и толстосумов забудут, еще не дочитав некролог, а ему поставят памятник на площади, и значит я должна немедленно закрепить за собой место у его постамента, – вспомнят его, вспомнят и меня. Потом-то я прослыла тонким ценителем поэзии, но разбиралась я не в стихах – я разбиралась в людях: я сразу понимала, вокруг чего они поднимут кудахтанье. Я любила восхищение, и раз уж стихами почему-то восхищались, я должна была их тоже вплести в свой венец. Зато когда в какую-то тоскливую пору обнаружилось, что стихами нужно жить, что им нужно жертвовать, я их возненавидела. На что уж трудно было вывести меня из себя – кроме себя меня мало что интересовало, – но на этих обносившихся футуристов я просто рычала, восхваляла «людей дела», которые когда-то тоже мне осточертели тем, что жили для дела, а не для удовольствий, но теперь я готова была жить хоть с красным банкиром, лишь бы он был красив и широк и знал толк в радостях жизни.
Овладеть мужчиной не вопрос. В мире больших амбиций каждый недооценен. Так дай ему понять, что он гениален, но его сумела оценить только ты. Каждый несвободен, каждый чем-то зажат – разреши ему сделать то, на что он не решался. Они все сразу считывали с моего ореола: «Я пришла дать вам волю!» Я не скрываю своих любовников, и вы тоже можете не скрывать своих жен и любовниц. Почти каждому трудно шагнуть из салона в спальню – держись с избранником так, будто вы уже двести раз переспали. И вообще, измены такие пустяки, что страдать из-за них могут одни только оголтелые мещане и мещанки.
А потом, когда завистники и завистницы соткут из слухов роскошный мессалинский список, в очередь за надеждой проникнуть туда выстроятся все, кому грезится хотя бы через мою постель причаститься к сонму знаменитостей. Даже в старуху в меня влюблялись юные интеллектуалы – влюблялись в тот мир, который сквозь меня брезжил. Так и перетирайте после этого сколько хотите, что у меня слишком большая голова, что я чуть ли не горбатая, рахитичная, коротконогая, что у меня страшные зубы, широкое лицо, короткий нос, длинная губа – важнее всего результат, мой чемпионский список: мировой рекорд есть мировой рекорд.
Вы до сих пор мусолите мои письма к будущему памятнику: ах, любимый мой щеник, ах, не плачь из-за меня, я тебя ужасно крепко и навсегда люблю, целую твой переносик, целую все лапики, хвостик, кустик, шарики, не изменяй, а то все лапки оборву, чтоб не было единого телефонного звонка; если все это не будет исполнено до самой мелкой мелочи, мне придется расстаться с тобой…
Вас возмущает, как стремительно у этой сюсюкающей киски отрастают коготки, – а почему я должна быть без коготков? Как я должна была управляться с этим бродячим псом, кого только из милости взяла к себе в дом? Он гений? Ну а мне-то что? Да, я желала места при его постаменте, но ради этого посмертного места я не намеревалась жертвовать прижизненными радостями: при жизни не я, а он должен был оставаться у моего постамента. У моей ванны и у моей постели – это были мои постаменты, я никогда не любила лежать на холодном и твердом. Если он желает, чтобы я была кисой, пусть и обращается со мной так, чтобы я чувствовала себя кисой: хочу визочку, пришли деньгов… Требуется ему поддувать себя всякими титаническими ролями – богоборца, горлана-главаря, – пожалуйста, поддувай. Но у кисы всегда должен быть чистый, мягкий тюфячок и молочко в блюдечке. И гулять она будет сама по себе. Вы дурейте сколько хотите со своими правыми уклонами, левыми уклонами, а у меня собственных забот хватает. А удовольствий не хватает.
Завистники и завистницы до сих пор услаждаются желчью побежденных. Горбоносая королева в изгнании неизвестно из какого королевства не могла мне простить, что я королева на троне: «наглые глаза на потасканном лице», «всегда любила главного»… А что, я должна была любить убогого? Да эти «главные» более убоги, чем босяки на Хитровом рынке. «Наглое и сладкое в лице, никогда не кончает»… Да как можно кончить с теми, у кого вместо спермы сопли, а вместо крови слезы?
«Я сижу в кафэ и реву, надо мной смеются продавщицы, любил, люблю и буду любить, будешь ты груба со мной или ласкова, моя или чужая» – да как же можно не презирать такого слюнтяя? Мужчина должен быть невозмутим, и в этом Ося не знал себе равных, он был даже сильнее меня. Хотя и ваш фальшивый богоборец, который никак не мог простить Богу, что его нет, этот дрожащий от ужаса перед жизнью, старостью, инфекциями, даже порчами, сглазом полководец без армии, если не считать армии слов, слов, слов, припадающий к толпе, чтобы зарядиться ее силой, и рыдающий, когда толпа не желала его слушать, предпочитая оставаться безъязыкой, – даже он до какой-то степени все-таки был мужчиной. С содранной кожей. И я оказалась единственным его обезболивающим, оттого он на меня, как теперь выражаются, и подсел. Я была не любимой его женщиной, а любимой таблеткой, это была не великая любовь, а великая наркотическая ломка, не жажда любви, а жажда новой дозы. Ну так за каждую дозу надо платить. У нас с ним была своя такса, о которой мы никогда не говорили, но оба прекрасно понимали, что почем. За слово «люблю» одна цена, за виляние хвостиком другая, за мерзкое словечко «Волосит» третья…
И он был не просто согласен – он был счастлив до небес, когда я давала ему возможность пожить еще немножко, не корчась от боли, – разве это не справедливая цена? Я дарила ему жизнь, а он мне всего лишь удовольствия – теплую ванну, чистую удобную постель, какальную бумажку, ну и, само собой, для шика «автомобильчит», «фордик» последнего выпуска, на усиленных покрышках-баллонах, и чтобы предохранители спереди и сзади, добавочный прожектор сбоку, электрическая прочищалка для переднего стекла, фонарик сзади с надписью stop, стрелки электрические, чтоб видеть, куда машина поворачивает, теплая попонка, чтобы не замерзла вода, два добавочных колеса сзади, а в придачу вязаный костюм темно-синий (не через голову), шерстяной шарф и джемпер (носить с галстуком), рейтузы розовые, три пары, рейтузы черные, три пары, чулки очень тонкие и не слишком светлые, дорогие, а то быстро порвутся, синий и красный люстрин, два забавных шерстяных платья из красной материи, бусы (если еще носят, то голубые), перчатки, всякие модные мелочи (не разбираешься сам, расспроси своих наложниц), носовые платки, духов побольше и разных, пудры, карандашей для глаз – у меня же глаза-небеса, горячие до гари, так и добывай для них достойное обрамление!.. А если он вдруг решит, что не стоит овчинка выделки, ну так и Бог с ним, проживем без постамента, хотя на место у постамента я уже давно заработала. Конечно, мне было бы жаль и славы, и денег – я не ханжа, но безраздельная власть мне была дороже. К тому же все бы мне поверили, что я его выгнала сама.
Что до денег, то я была щедрой – по-королевски: щедро наделяла тем, что мне подносили подданные, я никогда не опускалась до того, чтобы зарабатывать самой. И я была демократичной – тоже по-королевски. Тот, кто вознесен над всеми, должен быть и равен ко всем.
Я его удержала, когда он хотел уйти от меня к этой парижской дылде? Или к актёрочке, державшейся на муже-комике, который был особенно хорош в Действительном рогоносце? Хотел бы, так и ушел бы, но ни у одной из них не было нужной дозы. Он ведь был немножко лошадь, ему и дозы были нужны лошадиные. Стоило мне через гадливость написать: ужасно тебя люблю, пожалуйста, не женись всерьез – и все их жалкие стимуляторы были тут же отброшены. Он пытался, как теперь выражаются, вмазываться их кровью, но и она не цепляла, тем более что его бесило, по какому праву они хотят и для себя сохранить стаканчик-другой.
Он же был вампир, он всегда должен был питаться кровью тех, кто умеет радоваться жизни. Гореть на костре немыслимой любви нужно на бумаге и на эстраде, а в жизни следует нежиться! А он замахивался на амикошонство со вселенной, с мирозданием. Будем хвосты на боа отрубать у комет! Солнце приколем любимым на платье! Эй, вы, небо, снимите шляпу! А небо открывало ему, что он неизмеримо крошечнее блохи, меньше пылинки, мизернее бактерии. Его должен был привязать к кометам, как к хвостам лошадиным, вздернуть, Млечный Путь перекинув виселицей, самолично Всевышний. Но он же не мог не понимать, что под этой звездной молочной рекой его было бы не разглядеть ни в один сверхмощный телескоп. Терзаемый своей мизерностью в небесах, он пытался раздуваться на земле, гремел, хамил, и все равно, стоило любому издательскому клерку отправить его в общую очередь, он прямо-таки выл от отчаяния: я больше не могу-у-у!.. Он крыл людей последними словами, и в изобретательности здесь ему не откажешь: желудки в панаме, извозчики, обрюзгший жир, стоглавая вошь, лысины слиплись в одну луну, сползаются друг на друге потеть, – и тут же пугался остаться один под безмерными небесами и начинал валяться у извозчиков и желудков в ногах, божиться, что готов отдать и корону, и самое свое бессмертие за одно только слово ласковое, человечье, – видели, мол, как собака бьющую руку лижет? Да видели, видели, зрелище не из приятных. Но когда в побитую собаку превращается крупный мужчина, мнящий себя огромнее Великого океана, – ничего более жалкого и противного мне созерцать не приходилось.
Зато, соприкасаясь со мной, прикасаясь ко мне, он начинал ощущать, что презирать людей можно не напоказ, а совершенно искренне и невозмутимо, можно всерьез не нуждаться ни в чьих ласках, исключая тех счастливцев, коих я изберу сама. Я и здесь служила для него наркотиком, от меня он напитывался уверенностью, что никому не нужно ничего доказывать – пусть доказывают тебе. Он припадал ко мне, как Антей к матери-земле, но ведь ему нужна была вселенная! Где он тут же сдувался и начинал изнемогать от ужаса перед безднами, среди которых обречены жить смертные. Он и стрелялся после бесконечных разговоров и расчесываний своего ужаса, а я решила и тут же ушла. Он и здесь мог бы у меня поучиться, если бы не струсил раньше, – снова я, женщина, оказалась сильнее. И как же мне прикажете кончать с такой публикой, которая не смеет кончить с жизнью, когда она отказывается дарить наслаждения?
И как можно хранить верность тому, кто способен только рыдать и царапаться под дверью, куда его любимую любить увели? Когда я была замужем за настоящим полководцем, водившим в атаку бойцов, а не слова, не кавалерию острот, а настоящую конницу, я была ему верна, как последняя клуша, – потому что знала: при первом же подозрении я хорошо, если просто вылечу за дверь, а то с него еще станется отправить меня в штаб Духонина из именного маузера. Или отдать своей солдатне. Или четвертовать наградной шашкой. Я даже и такого не исключала. Зато лишь в те годы, когда я была смиренной домохозяйкой, мне удавалось кончать чуть ли не каждую ночь. Потому что я наконец-то отдавалась настоящему мужчине.
Даже после его ареста я кончала с ним во сне до самого его расстрела. Тогда-то я впервые едва не захлебнулась в алкогольном болоте. И мне было наплевать на перешептывания, что я после его казни потребовала вывезти вещи «этого мерзавца», – мне всегда была смехотворна забота о мертвых, которым она не нужна. Заботиться нужно о живых, в первую очередь о себе, я не ханжа.
Правда, после смерти Оси я несколько дней не могла проглотить ни куска, только пила кофе. И все-таки мои слова «когда умер Ося, умерла я» остались только словами! Чем я горжусь. Это единственное, чем я горжусь, потому что на другие заслуги мне плевать, ибо для меня нет ничего важнее, чем умение жить. Что для меня означало: наслаждаться. И я торжествовала, когда первые лица государства были принуждены среди сиротских магазинов Москвы допустить на мой стол крабов, угрей, миног, датские колбасы, французские сыры, каких они не пробовали сами, испанские вина и мандарины из Марокко. Я добивалась этого не из принципа, я всегда презирала такую глупость, как принципы, нет – я хотела наслаждаться и дарить наслаждения даже тогда, когда уже при жизни превращалась в мумию.
Интересно, согласился бы Володя любить меня такую – живую, но и мумию?
Александр Мелихов «Свидание с Квазимодо»