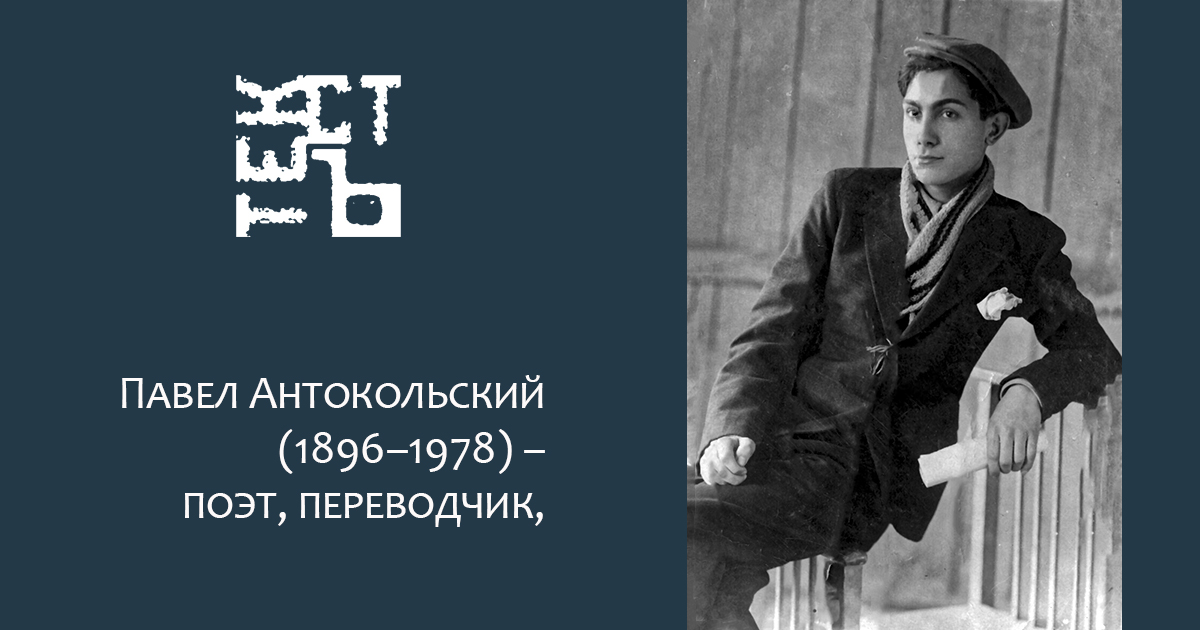* * *
Два рыбака по ночной реке
шли на одном плоту.
Первый курил, а второй в тоске
сплевывал в темноту.
Вспыхнули плоские фонари,
вызолотив лоскут
мыса. И первый сказал: «Смотри,
как берега текут!»
Важно второй, перед тем как лечь,
выдавил: «Ерунда.
Суша, глупец, не способна течь.
Это течет вода».
Плавно подрагивал от толчков
плот, огибая мыс.
В каждом из дремлющих рыбаков
билась рыбешка-мысль.
Но, шевеля голубой осот
и золотой тростник,
Главный Ловец с высоты высот
сонно глядел на них,
предусмотрев, на каком витке
крепкую сеть порвут
те, что висят на его крючке,
думая, что плывут.
* * *
У каждого есть бесценная чепуха,
которую он хранит:
обрывок бечевки, фантик, фрагмент стиха,
таинственный эбонит,
счастливый билетик, связка ключей от той
квартиры – окном на юг –
куда ты – без лифта – с первого на шестой,
и дверь открывалась вдруг.
В бедламе отъезда этот священный хлам
(а стоит ли он возни?),
сбивая предметы, ищешь по всем углам:
да где ж она, чёрт возьми,
монетка вон та – вершина его даров –
цидулка из никогда?
Тебе подмигнул бы пристальный Гончаров:
залоги любви, ну да.
И там, где толпа клубится у врат, боясь,
что не заберут в теплынь
краёв, где в озёрах спит краснопёрый язь,
скользит золотистый линь,
тревожишься об одном, подходя к черте:
позволят ли пронести
тот синий стеклянный шарик, что в суете
успел ты зажать в горсти.
24 мая 2021
* * *
Осы, стрекозы, пыльные плодожорки,
ящерки, головастики, голавли,
яхты, фрегаты, шлюпки, фелуки, джонки –
где они? Утекли
в плоской полоске света, в летучей влаге
ворохом охры в мелком лесном овраге,
щепками, головешками на плаву,
струпьями лета, лопнувшего по шву.
Врунгели, уленшпигели, оцеолы,
дервиши, беспризорники, короли,
юркие чародеи бродячей школы –
где они? Утекли,
сгрудившись на корме одряхлевшей барки,
где посылает «sos» головастик в банке
азбукой Морзе всем старикам земли,
прячась под курткой у китайчонка Ли.
В темных запрудах, в заводях неопрятных,
переливая «некогда» в «никогда»,
лица листвы в прожилках, в пигментных пятнах
перед концом разглаживает вода.
И проступают вдруг, как на общем фото,
скулы, носы, веснушки. Вполоборота
кто там свистит беззвучно щербатым ртом –
Гек или Том? Да ладно! Конечно, Том.
* * *
Сломай себе ветку масличную,
торжественный сделай венец.
И эту тоску неприличную
по славе – оставь наконец.
Все игрища наши, ристалища
не смерть обещают, так срам.
А здесь – над конторкой – с листа ещё
сверчок дребезжит по утрам.
И створками щёлкают мидии
в жаровне, где тает смола…
«А греки прикончили Фидия, –
ты вспомнишь, смахнув со стола
горячую искру, – и дар его
не вывез». А ты – на плаву.
И косточкой фрукта янтарного
пуляешь из губ в синеву.
Без имени, даже без отчества –
в посёлке, разбухшем от гроз,
где призрак татарского зодчества
травой, как щетиной, оброс;
где, греясь украденной старкою,
поскольку волна холодна, –
подростки ныряют, как сталкеры,
и амфору тянут со дна, –
ты в сон погружаешься с курами.
И если б, набросив пальто,
в ларёк не спускался за куревом,
тебя б и не вспомнил никто.
* * *
Старики обживают улицу, как траншею,
осторожным шажком: налево, направо зырк.
И у каждого колокольчик на тонкой шее
обездвижен и безъязык.
Им понятно, что бой неравен, а ров неровен.
Все труднее дышать под маской беззубым ртом.
Срок просчитан, а колокольчик пронумерован,
вписан в ведомость, и его заберут потом.
Старики семенят, сбивая в ходьбе набойки,
так прозрачны в апрельских сумерках, что дитя
пробегает сквозь них, тинейджер летит на байке,
оперяются клены, гривами шелестя.
Безнадзорные, сокращающие до мига
путь извилистый от собеса к небытию,
слышат музыку: это вслед им поет Доминго
на балконе, как на переднем своем краю.
И покуда ты, в добровольной томясь тюряге,
в сотый раз подсчитав, как список смертей подрос,
кипятишь молоко, отхлебываешь из фляги,
очевидное, словно мантру, бубня под нос:
что не Юлиус Фучик ты и не Януш Корчак, –
твой сосед внизу
все звонит, звонит в беззвучный свой колокольчик,
сглатывая слезу.
* * *
Она сама ещё не решила: стара или молода,
подножье это или вершина, оттуда или туда.
Не знает: вiдповiдь или запит, цветенье или жнивьё.
Ещё ей мнится: Восток и Запад сражаются за неё.
Восток назойлив и неопрятен: обидчивый, острый, злой.
На кой ему этих впадин, вмятин, отметин культурный слой?
Грозит: в объятьях слегка придавим, намнём невзначай бока.
А Запад хочет её с приданым, которого нет пока.
Кося под розовую овечку, тугим завитком тряся,
она стоит, колупая печку, вздыхая, такая вся.
И вместо вдумчивого ответа играющим в поддавки
нестройно в ней дребезжат от ветра пугливые позвонки.
Несушка квохчет, ромашка вянет, вьюнок залепил окно.
Один залюбит, другой обманет, а третьего не дано.
То страшно ей, то смешно до колик. То людно, то пусто вдруг.
Где Север – въедливый трудоголик? И где прощелыга Юг?
С носка на пятку, с носка на пятку покачиваясь, дрожа,
она уже представляет схватку, сверкнувший рывок ножа,
победный стяг боевого братства, ликующее лицо.
Но видит жёлтые пятна рапса, невзрачное озерцо,
машину, облаком серой пыли сползающую с холма.
Слиняли все, а её забыли: мол, дальше сама-сама –
батрачкой, выскочкой, одиночкой, сквозь высохшую листву
белея выгоревшей сорочкой с барвинком по рукаву.
ВЕСНОЙ
Я хочу быть сухим китайцем с косичкой тощей,
с колокольчиком в горле (что за чудной язык!),
собирающим хворост в короткопалой роще,
перед тем как заснуть, читающим Чжуан-Цзы;
и глядеть сквозь костер, где все очертанья зыбки, –
искривляется ствол, подрагивают кусты, –
чтоб над всхолмьями скул мерцали глаза, как рыбки,
что синхронно к вискам загнули свои хвосты;
сохранить напоследок только одну из функций:
подгребая угли, покуда огонь горит,
головою качать: “Куда ты завел, Конфуций?”,
но при этом молчать (кто знает – не говорит);
и, вбирая ноздрями запах апрельской прели,
ни обиды в душе не взращивать, ни тоски,
иероглифом расплываясь на акварели,
выпускающим в сырость тонкие волоски;
вообще незаметно вылинять, раствориться –
как дымок меж ветвями, как в синеве дома
там, внизу, где еще белеет, как плошка риса,
одичавшая слива, если глядеть с холма.
СНЕГ
– Словно шорох помех,
помнишь, в старой спидоле,
это, кажется, снег?
– Не снаружи, а в доме
звук. Не спорь, помолчи.
Это бабушка Галя
ищет капли в ночи,
света не зажигая.
Или дед (слышишь треск
дров?), хлебнувший из фляги,
сел у печки, нетрезв,
и сжигает бумаги.
Или отчим, размах
чуя распри возможной,
собирает впотьмах
чемоданчик тревожный.
– Но их нет. – Они есть.
– Где? В убежищах тайных?
Что им прятаться здесь,
если приняли т а м их?
Сна – как не было. Чай
заварить? Снег – на прутьях,
проводах… – Не включай
свет, не вздумай спугнуть их.
– Это снег, посмотри,
снег шуршит. – Говорю же,
помолчи. Звук – внутри.
Звук – внутри, не снаружи.
* * *
Сосны темным полукругом. Снег. Звезда в семнадцать ватт.
Ослик вздрагивает, руган. Ослик вечно виноват.
Не избегнуть колотушек. Соль в ресницах. Боль в заду.
Но не он, слетев с катушек, прикрутил в ночи звезду.
Нет, не он в дурную среду проложил следов курсив,
чтоб сарай спалить соседу, провода перекусив.
И не он, почуяв запах крови, пороха, бухла,
в бойню вверг восток и запад приграничного села.
Но ушастому не внове подставлять бока, и на
хоровое: кто виновен? – отвечать: иа, иа,
под ночным топча обстрелом глины мерзлую халву,
видя мир большим и белым сквозь пробоину в хлеву.
2022
* * *
По ржавому пальнув, пустому баку:
отстой, мол, и фигня,
он, выбив дверь, убил мою собаку.
Потом убил меня.
И не было ни ужаса, ни боли –
негромких два хлопка.
Мы встали и пошли, минуя поле,
направо, где река.
Но лапу приволакивала псина,
и боком по стерне
теперь не впереди она трусила,
а тычась в ногу мне,
в любой момент готовая включиться,
и даже огрести
за дурочку с пробоиной в ключице
и слабостью в кости.
Река, вписавшись в местную природу,
слегка смиряла прыть.
Я знала, что собака эту воду
не сможет переплыть.
А та в оцепенении глубоком,
поджав худой живот,
косила на меня печальным оком:
«А вдруг не доплывёт?»
Две беженки, чей срок на «или–или»
бессмысленно истёк,
мы с ней переглянулись и поплыли,
по грудь войдя в поток.
И словно безразличная, чужая
речь вне добра и зла,
река впустила нас, не отражая
в себе, и понесла.
2022
* * *
– Ладно, Ты отобрал море, клочок земли
в пять с половиной соток,
лунные ковыли, сад в дождевой пыли,
лета горячий свёрток,
дружный галдеж гостей с ворохом новостей,
беглого муравья.
Но зачем Ты убил детей?
Слышу в ответ: «Не Я».
– Ладно, взамен тюрьмы Ты мне вручил суму,
выбранив троекратно.
Разум моих друзей Ты погрузил во тьму
и не вернул обратно.
Кореш меня учил: Бог – справедливый чел,
а не галлон вранья.
Но детей Ты убил зачем?
Слышу в ответ: «Не Я».
– Ладно, меня Ты спас. Чтоб не рванула вспять,
окна обрушил в доме.
Дал сухарей в запас. И, бормоча «не спать»,
выплюнул на кордоне –
мол, на luisenplatz в тёплом чужом пальто
выживешь, корм клюя.
Но детей ты убил за что?
Слышу в ответ: «Не Я».
Вот я плыву пятном в пёстрых Твоих рядах
в ночь, где всего дороже
крыша над головой: по-украински – дах
и по немецки – тоже.
Кирхи зеленый шпиль над городской стеной.
Огненный сухоцвет.
– Господи, это впрямь Ты говоришь со мной?
И ничего в ответ.
2022
* * *
– Я покину, – сказал он, – хлипкую эту лодку.
Сил всё меньше день ото дня.
Мне война запускает костлявую руку в глотку
и вычерпывает меня.
Там, внутри, уже – ни листочка, ни лепесточка
ни обрыва, ни пустыря.
Посмотри, – говорит, – легка моя оболочка,
легче рыбьего пузыря.
Я уже не читаю книг, не включаю телик.
За харчами – и в норку юрк.
Я – законченный псих, затравленный неврастеник.
И не в помощь ни Фрейд, ни Юнг.
Соскреби нас, Господь, стальным своим мастихином
до землицы сырой, до тьмы.
И не надо стихов – какие теперь стихи нам? –
только бдение и псалмы.
Дрожь, как будто еще не выскочил из простуды.
Стынет воздух на языке.
Я давно уже ем из пластиковой посуды –
прочей не удержать в руке.
Рынок, ёлок предновогодние позументы,
дом в гирляндах, окно
в синих блёстках – не вижу в целом: всё на фрагменты,
на фрагменты расчленено.
А ещё он сказал: «Когда я рассыплюсь в этом
судном взрыве на горсть песка,
собери меня, Боже, заново – не поэтом,
а смотрителем маяка,
что уверен в одном: не тьма управляет светом,
а его рука».
декабрь 2022
* * *
В кольчуге и с мечом торчащая в седле?
А может, на скамье с бутылкой и стаканом?
Приятель, ты о чём? Я – памятник себе
и развалюсь, другим подобно истуканам.
Одесса и Баку, Тбилиси и Бишкек
едва ль проложат путь к последней из утопий.
Но ласточка совьёт гнездо в пустой башке,
и мыши прогрызут дыру в голеностопе.
Забьют ко мне тропу сирень и бузина.
Истает бледный серп, как профиль Эккермана.
Стихи, ты говоришь? – но скоро им хана –
слависта корм сухой, добыча графомана.
Оставь меня в ночи, озвученной сверчком, –
без гунна с рюкзаком и трёпа чичероне –
беззвучно черепок терять за черепком,
как дерево листву, при этом ничего не…
* * *
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕВСА – поэт и переводчик. Член Национального союза писателей Украины (с 1993 года).
Родилась 15 октября 1956 года в г.Харькове, в семье военного. Училась на филологическом факультете Харьковского университета. В 1981 году окончила московский Литературный институт имени А. М. Горького.
В 1981-1986 годах работала в Книжной палате Украины, позднее – в Харьковском национальном университете.
Первые стихи опубликовала в 1975 году. Автор более 10 поэтических книг. Лауреат премии Международного фонда памяти Бориса Чичибабина (2000), премии журнала «Звезда» (2008), Русской премии (2016), Волошинской премии за книгу «Юго-Восток» (2015) и др.
Переводила стихи Сапфо, рубаи Омара Хайяма, «Песнь песней», произведения украинских, польских, армянских, грузинских поэтов.
Живёт в Харькове.
#поэтическая_закладка_Зелёной_Лампы #украинская_поэзия