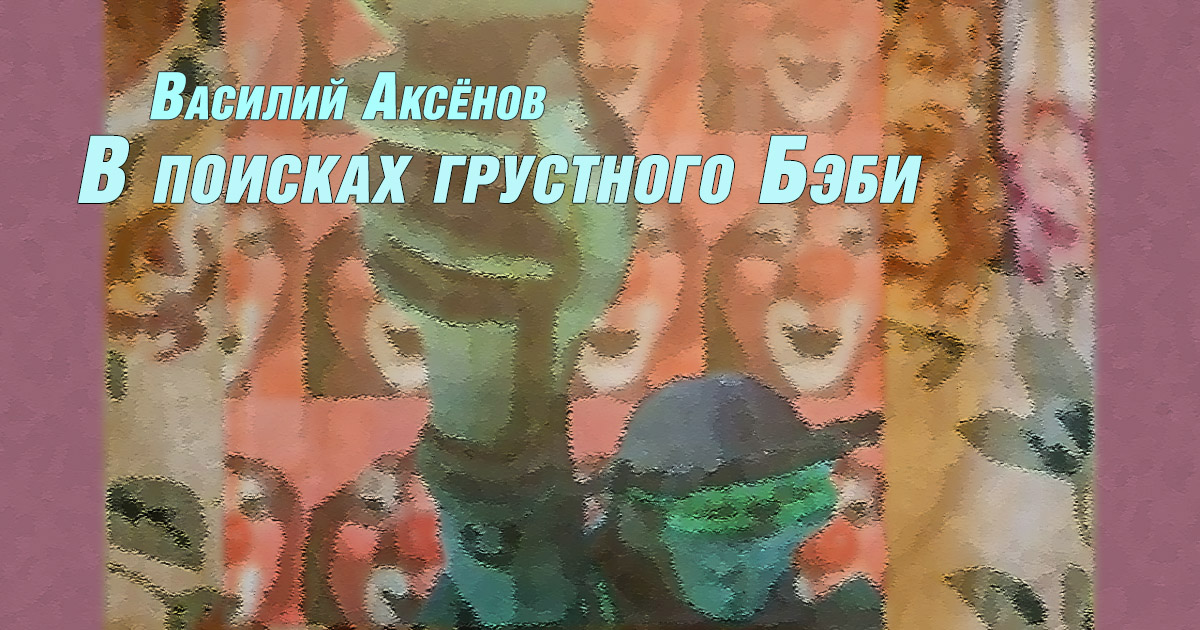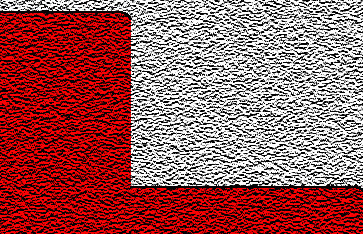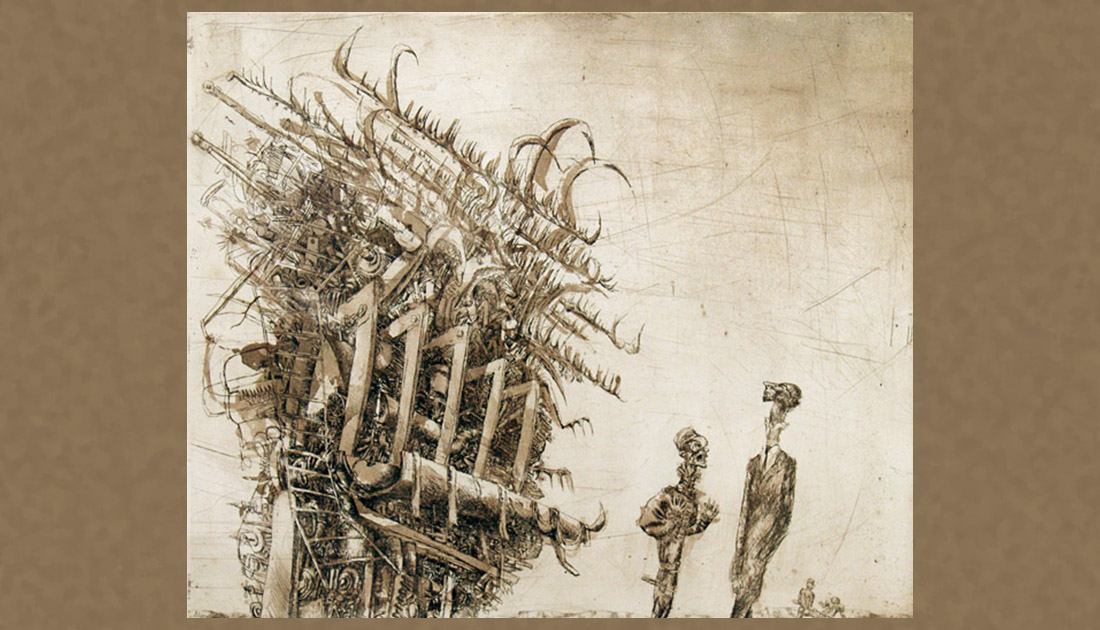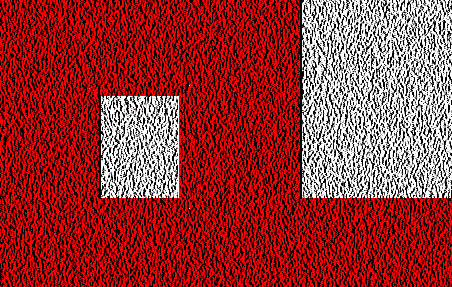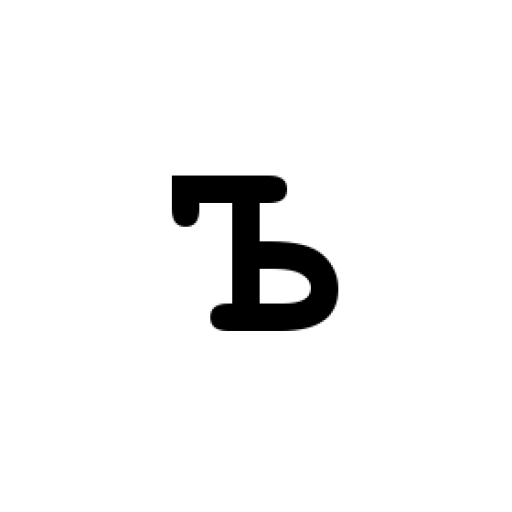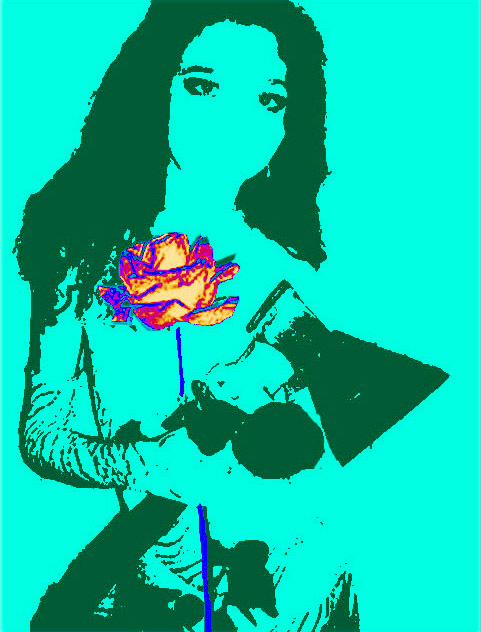К 160-летию Чехова «Литературка» поместила в центр юбилейной статьи о классике слова Федина насчёт таланта, несущего надежду. В комментариях к «Возвращённой молодости» Зощенко тоже старался отмыть Чехова от обвинений в «мотивах тоски, уныния, трагической неудовлетворённости»: Чехов-де на самом деле был «жизнерадостным, любящим людей, ненавидящим всякую несправедливость, ложь, насилие, фальшь», — как будто можно ненавидеть несправедливость, ложь, насилие и фальшь и при этом любить людей, которые непрестанно все это творят, да при этом ещё и сохранять жизнерадостность (что самому Зощенко никак не удавалось). Гораздо ближе к истине был Шестов: «Чехов был певцом безнадёжности»; «Чехов только одно и делал: теми или иными способами убивал человеческие надежды». И все-таки дети стольких народов не стали бы зачитываться Чеховым, если бы он не нёс им какого-то утешения. Которое я определил бы так: эстетизация бессилия.
На школьных вечерах худсамодеятельности, особенно на фоне стихов, воспринимаемых как неизбежное зло, неизвестно за какие грехи свалившееся на нашу голову, уморительный Чехов всегда принимался триумфально: «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия»…
Но однажды в студенческом общежитии без малого в осьмнадцать лет мне открылась совсем не забавная «Скучная история», и я обомлел от ещё невиданного сдержанного благородства и непонятно откуда берущейся красоты, которую я сегодня назвал бы скорее поэзией. И к тому времени, как мне и самому потихоньку стала являться муза, я уже боготворил грустного интеллигента в пенсне до такой степени, что его творчество мне представлялось просто-напросто «концом литературы». Мне казалось, искать больше нечего — не нужны ни исключительные события, ни великие характеры, весь драматизм жизни можно передать, не выходя из обыденности, не прибегая ни к стилистической напряжённости, ни к масштабной философии: только сдержанность, только подтекст…
Саркастические замечания других великих по адресу Чехова отскакивали от меня как от стенки горох. Ну, заметил Толстой в дневнике, что превосходство Чехова над его героями мнимое, ему открыто не больше, чем им — так и что? Чехов открыл главное: в мире нет мелочей, все на свете наполняется значительностью, стоит в него вглядеться и рассказать точным и аскетичным чеховским языком. И в ту романтическую пору, когда молодёжь торчала на подтекстах Хемингуэя, обнаруживая, что самый пустяковый диалог наполняется таинственной глубиной, если его поместить в прозу, равно как глубоким намёком неизвестно на что становится любой предмет или даже пятно, если его заключить в раму, — для меня это было лишь отголоском Чехова. (Но сам-то Хемингуэй, назвавший Чехова умным доктором, ни о каких его подтекстах не заикнулся. Может быть, в переводе они были не так заметны?)
На Толстого, конечно, было невозможно смотреть свысока, но утончённые натуры Серебряного века вызывали именно снисходительное отношение — на кого вздумали замахнуться, бедняги!.. Инвективы Иннокентия Анненского я читал с некоторым даже сочувствием к их автору: и неужто же русской литературе надо было вязнуть в болотах Достоевского и рубить с Толстым вековые деревья, чтобы стать обладательницей этого палисадника! Чехов, по Анненскому, ещё и ничего не любил, кроме парного молока и мармелада… Ахматова же с её неукоснительной царственностью вызывала скорее раздражение, умеряемое опять-таки снисхождением к дамской инфантильности, — мир Чехова-де сер и скучен, в нем не сияет солнце, не звенят мечи, — в детстве мне и самому больше нравился Вальтер Скотт с бесчисленными мечами, но взрослые-то люди должны понимать: откуда в нашем сегодняшнем мире, в нашем северном климате какие-то мечи, какое-то особенное солнце?..
В ту пору мне были не нужны ни солнце, ни мечи, потому что я в опьянении юношескими химерами и без того постоянно пребывал среди сверкания и звона. Толстой, Достоевский слишком потрясали, пробуждали слишком много чувств и мыслей, чтобы можно было под них элегически погрустить. Мой любимый Паустовский раскрывал мир как прекрасное романтическое приключение — каким он мне и представлялся. А вот посетовать на скуку и мизерность бытия, когда тебе практически неизвестно, что такое скука и ты ни минуты не ощущаешь себя мизерным, — такое утончённое кокетство бывало очень даже сладостным! Да, да, упоение чеховской грустью было самым настоящим кокетством: приятно слушать вьюгу, сидя в тепле.
Зато, когда с приближением старости чувство бренности всего земного начинает преследовать всерьёз, — тут становится уже не до кокетства. Когда чувство ничтожности современного бытия подступает вплотную, за Чеховым уже не укроешься, — тут впору потянуться и к романтическим мечам, сверкающим под полуденным солнцем…
Проще выражаясь — Чехов в моих глазах перестал справляться с экзистенциальной защитой, защитой человека от ощущения собственной мизерности и мимолётности, что, как я теперь считаю, составляет первейшую обязанность искусства. Да, конечно, он нам соболезнует, этот добрый доктор Айболит, он грустит вместе с нами, он осуждает наших обидчиков, — но ведь даже самый безнадёжный больной сочувствию медперсонала предпочёл бы лекарство! Точно так и я с некоторых пор начал предпочитать книги, пробуждающие во мне гордость и бесстрашие, а не грустное бессилие. «Хаджи-Мурат», «Старик и море», а не «Скучная история» или «Чёрный монах». С тех примерно пор у меня и начал оттачиваться зуб на Чехова — слишком уж долго он заслонял мне небосвод. И невольно уводил меня от масштабных событий к будничным мелочам, как будто вся поэзия и вся жестокость мира сосредоточена в повседневности. Вместо того чтобы раскалять её на художественной сковороде, как это делает, скажем, Фолкнер.
Но — возражают страстные почитатели Чехова — изображая будничную, почти незаметную постороннему глазу жестокость, Чехов пробуждает отвращение к самовлюблённому эгоизму — кто-то, может быть, взглянет на себя построже, прочитав, скажем, типично чеховский рассказ «Княгиня». Молодая женщина, ощущающая себя трогательной птичкой, оскорбляет и притесняет всех кругом, а когда обиженный ею доктор кое-какую горькую правду высказывает ей в лицо, она лишь прячется в слезы — можно надеяться, что, увидев себя в этом зеркале, мир сделается добрее.
Добрее… И дальше что? Ещё отца оскорблённого доктора, а уж деда тем более, вздумай они на что-то попенять предкам княгини-птички, без разговоров отодрали бы на конюшне. И они при этом, возможно, скорее забыли бы о своём унижении, чем доктор о своём, для них скорее всего почти неразличимом, ибо, сколько ни улучшается жизнь, наши требования к ней растут ещё быстрее. Если из наших отношений вообще исчезнет грубость, если все станут друг другу только улыбаться, нас начнёт ранить недостаточно широкая или недостаточно искренняя улыбка.
От бессмыслицы бытия никакая доброта защитить не может: человека с ослабленной иммунной системой может убить любая царапина, и дело совершенно безнадёжное — выстроить мир, в котором уже ничто не будет нас ранить. Наделять человека силами переносить душевные раны намного важнее, чем устранять из его окружения острые предметы, одновременно повышая его уязвимость. Силы же даёт только захватывающая страсть, захватывающая цель, с высоты которой будничные обиды и неудачи начинают представляться не столь уж важными. Лет двадцать — двадцать пять назад я ехал из университетского Петергофа в электричке со знакомым профессором математики — отличным специалистом, хотя и отнюдь не гением, — направлявшимся в больницу на нейрохирургическую операцию, и он всю дорогу азартно толковал, что на случайные процессы смотрят так, а нужно смотреть этак. Я даже порадовался, что операция, видно, не слишком серьёзная, раз он способен так волноваться из-за столь бренных предметов, однако он через несколько месяцев благополучно отправился к праотцам. А вот герой «Скучной истории», выдающийся вроде бы учёный, с Пироговым на дружеской ноге, во всех своих печальных размышлениях не вспоминает о науке практически ни разу. Что-то упоминает в самой общей форме, — но учёных-то захватывают совершенно конкретные проблемы!
И до меня тогда ещё дошло, что людей спасает страсть, азарт, заслоняющий от них тщету и ужас бытия. А у чеховских героев никогда нет никакой цели, ради которой стоило бы напрягаться, идти на риск неудач и унижений. А значит, они были бы обречены на тоску и пустоту, если даже их окружить сверхчеловеческой добротой и деликатностью: не имея поглощающей цели, невозможно быть ни сильным, ни счастливым.
Уже давно стало общим местом — Чехов изобразил всю Россию. У него и впрямь, как у дядюшки Якова, товару про всякого — и чиновники, и мужики, и помещики, и актёры, и проститутки, и художники, и инженеры — нет лишь ни одного не то чтобы счастливого, но хотя бы захваченного своим делом человека (исключая разве что чудаков, вроде Дымова, а сильным, умным, гордым и благородным людям в чеховский мир вход строго воспрещён). Даже художник Рябовский не изрекает ничего, кроме пошлостей. Ну ладно, пускай он не Левитан, у которого начинали катиться слезы, чуть только он видел иней на стекле или осеннюю дорогу (уже захлюпал, насмешничал выезжавший с ним на этюды Коровин), но все же, и Рябовский был способен писать «действительно великолепные» картины, значит он знал и высокие мгновения, знал многие часы и годы напряжённого труда — почему его нужно изображать лишь в минуты упадка, когда его не зовёт к священной жертве Аполлон?
Чехов был младшим современником титанов Народной Воли, но народнические грёзы попали в его мир лишь в пародийном изложении пошляков либо унылых кисляев. Быть может, для трезвого взгляда они ничего лучшего и не заслуживают, но волей-то — не Народной, а человеческой — не восхититься же, кажется, невозможно? (Пушкин, между прочим, отлично понимал разницу между взглядом художника и взглядом политика: в поэтическом отношении все это прекрасно, но их надобно раздавить, писал он о восставших поляках.) А в чеховский «Рассказ неизвестного человека» если и попадает террорист, то, разумеется, разочаровавшийся. Но я, по молодости лет преклонявшийся перед этими действительно героическими личностями, перечитал главные воспоминания тех, кого почему-либо не повесили, — Морозов, Фигнер… — и никто из них после десятков лет тюрьмы не обнаружил ни малейших признаков разочарования в собственных подвигах. Да, был и Тихомиров, но его путь к разочарованию в революции был путём мучительной борьбы, его дневники временами потрясают концентрацией боли и одиночества на чужбине: его, «реалиста», вдруг пронзают забытые запахи, краски, звуки православной церкви…
А у Чехова никакой борьбы, как будто разочарованность в деле, которому только что был готов отдать жизнь, есть нечто само собой разумеющееся. У Чехова не то что мечи — у него, кажется, даже море не сверкает, и герои его как будто никогда в нем не купаются — а это же ни с чем не сравнимое наслаждение! За которым, собственно, люди и ездят к морю, а не только для того, чтобы слоняться по набережной и сидеть в забегаловках. И хороший аппетит у Чехова служит прежде всего признаком моральной деградации: если герой может съесть порцию селянки на сковородке, значит человек пропащий.
В мире Чехова люди как будто не испытывают физических радостей от движения, от вкусной еды, от секса…
Короче говоря, пространства реального мира, где с вершин силы и гордости бегут сверкающие реки радости и азарта, на чеховской карте затёрты пустынями. Разглядывая эту карту, я иной раз готов был заклеймить мир Чехова как гениальную клевету на божий мир. Ведь и сам он прожил жизнь вполне подвижническую, и героев умел и видеть, и восторгаться ими, — его отклик на смерть Пржевальского сверхромантичен: «Понятно, чего ради Пржевальский лучшие годы своей жизни провёл в Центральной Азии, понятен смысл тех опасностей и лишений, каким он подвергал себя, понятны весь ужас его смерти вдали от родины и его предсмертное желание — продолжать своё дело после смерти, оживлять своею могилою пустыню… Читая его биографию, никто не спросит: зачем? почему? какой тут смысл? Но всякий скажет: он прав».
Чистый Ницше: нет ничего прекраснее, чем погибнуть за великое и бесполезное дело.
* * *
Кажется, читатель мог бы и обидеться, что его любимый писатель себе в образцы берет героев, а ему достаются одни только киснущие в сумерках хмурые люди. Так нет же, это именно сам читатель выбрал хмурость и сумерки.
Не всякий, конечно, читатель, но тот, который превратил Чехова в писателя культового; предметом же культа может сделаться только что-то простое и полезное. Поэтому ни тонкий лирик, ни проницательный ироник, ни безжалостный изобразитель тупости и зверства (а Чехов каким-то чудом совмещал в себе все эти ипостаси) культовыми писателями сделаться не могут. Мне кажется, истоки культа Чехова проще всего разглядеть в его экспортной версии, наиболее освобождённой и от мощи российских реалий, и от роскошеств русского языка, — не случайно же на Западе наиболее популярен Чехов-драматург: его пьесы там вроде бы идут шире, чем пьесы Шекспира, — в чем же секрет их обаяния? Певец безнадёжности, убийца человеческих надежд, всего, чем живут и гордятся люди, — если бы Чехов действительно соответствовал этим клеймам Шестова, его бы никто не любил, не читал и не ставил, кроме разве что единичных мизантропов: люди ищут экзистенциальной защиты так же бессознательно, как подсолнух солнечного света. Если они больше ста лет кого-то любят и даже обожают, значит он их чем-то утешает, — вопрос — чем?
Громовержец Толстой, искренне любивший Чехова (ах, какой милый человек, прямо как барышня!), однажды, прощаясь, обнял его и проговорил: а все-таки пьес твоих не люблю — Шекспир скверно пишет, а ты ещё хуже. Шекспиру Лев Николаевич инкриминировал склонность к преувеличениям, к исключительным ситуациям и к философским сентенциям, разрушающим правдоподобие характеров и ситуаций. Но виднейшие литературные авторитеты того же fin de siecle обвиняли Чехова ровно в обратном: у него нет ни исключительных событий, ни великих характеров, ни пышных оборотов, ни масштабной философии.
А в ту пору был немыслим великий писатель без великой идеи. Достоевский мечтал чуть ли не соединить государство с церковью, указывал русскому человеку великую историческую миссию всемирной отзывчивости: понимать и любить правду всех народов глубже, чем они сами. Толстой, требовал отказа от собственности и государственного насилия, начиная с армии и полиции. В театре блистала символистская драма — Ибсен, Метерлинк, — в грандиозных метафорах тоже замахивающаяся на мировые вопросы. От неё старалась не отстать и литература квазиреалистическая. Максим Горький своими непокорными босяками намекал на ницшеанского сверхчеловека, а через сознательных рабочих прямо призывал к революции. Леонид Андреев почти неприкрыто пытался скрестить реализм с символизмом, опережая будущую драматургию экзистенциалистов (Сартр, Камю, Ануй) и прозу Сарамаго, придумывая новую трактовку классическим образам («Иуда Искариот»).
Все бурлит и сверкает, сулит неслыханные перемены, невиданные мятежи. А Чехов ровно ничего не сулит, обращаясь к довольно-таки беспросветным (хотя и не ужасающим!) будням не слишком счастливых (хотя и не ужасающе несчастных!) людей. Которые, чтобы ощущать себя одинокими, достаточно возвышаются над своей средой, хотя и не настолько, чтобы сделаться героями и вождями.
Сегодня чем-то в этом роде себя ощущает большинство порядочных интеллигентных людей. Сегодня это норма. Но тогда!..
Слишком нормален — таков был распространённый приговор «декадентов», желающих строить жизнь по законам искусства. Недостаточно идеен, не зовёт к справедливому социальному строю, считала «прогрессивная общественность». Не только мы с нашими кошмарами, но и весь западный мир должен был пережить ужасы войн и разочарования во всех пышных химерах, насмотреться на неслыханные перемены и невиданные мятежи — хотя бы у соседей (впрочем, хлебнули все), чтобы оценить главное прозрение Чехова: нормальная, не слишком весёлая будничная жизнь — это большее, на что мы можем рассчитывать.
Чехов с грустным состраданием и с потрясающей достоверностью изображал повседневную жизнь симпатичного, но не слишком решительного человека — и тот во всем мире платит ему любовью и благодарностью. Чехов, устранив из своего мироздания Пржевальских и Желябовых, устранив могучих и целеустремлённых, удалил тем самым с глаз подальше все, что могло бы послужить укором слабым, напоминая им о том, что человек сильное и высокое создание. Слабому приятнее думать, что не лично он, а человек вообще слабое и одинокое существо, коему дал бы бог вынести хотя бы собственное существование, — и эта эстетизация бессилия, соединённая с дискредитацией силы, по-видимому, самое подходящее мироощущение для современного культурного человека.
Чехов обеспечивает ему почётную капитуляцию перед грозными вызовами жизни, и потому останется любимцем интеллигенции всех стран и континентов до тех пор, покуда средний интеллигент не превратится либо в настоящего героя, уже не нуждающегося в красивом оправдании своей слабости, либо в героя Зощенко, не видящего в своём положении ровно ничего унизительного.
Александр Мелихов