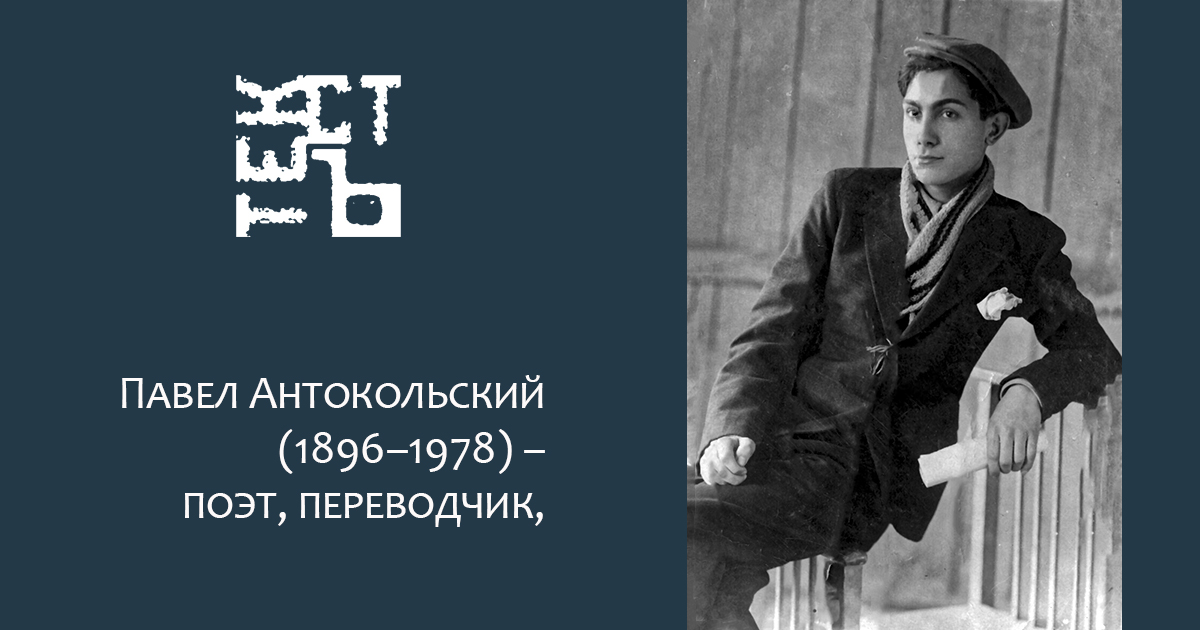ПЕСОК
1
Всему черёд, предел, конечный срок.
Последним в смертных муках камень мается,
Бормочет на каменьем: бог жесток…
Трещит по швам, мельчает, рассыпается,
И мать-скалу зовёт, и превращается
Как всё на свете – в прах, в сухой песок.
2
Снятся:
Солёный скрипучий
Серый сахар Сахары,
Гоби горчичные зёрна,
Крупчатая кровь Калахари,
Не спасительно жидкие тени
Сизо-блеклых пустынных растений,
На надломах стеблей горький сок…
Разъедает глазницы,
Проницает границы,
Засыпает гробницы,
Наискосок
По страницам струится,
Никуда не стремится…
Посмотри в старый сонник.
К чему это снится и снится –
Ярость солнца, пустыня, песок.
3
Благородный Синайский песок
Так далёк, так огромна планета.
Пустое… пристроит и этот
Безродный бродяга-бархан.
Остановится караван,
Подождёт пока я зарою
В жаркое тело бархана
Еще тёплое тельце младенца,
Пока прошепчу на своём:
Больше не на что, люди, надеяться.
Он всех нас покинул до срока –
Младенец с чудовищным лбом
Гения или пророка.
Загорятся над ним без огня
Саксаулов скорёженных свечи.
За младенца-то спросят с меня…
Господи, что ж я отвечу.
4
Шорох, шорох песка.
Кобра змеится по склону бархана:
Ш.. ш…шорох…х…х.
Он проснётся от острого чувства беды,
Смочит горло глотком тёплой, тухлой воды,
Сбросив пояс и плащ, побредёт налегке
К миражу, что сиренью цветёт вдалеке,
Вспоминая тех снов на горячем песке
Мрак и морок.
И так прочно забытое имя его…
Но дойдя, он не вспомнит совсем ничего.
Только шорох змеиный песка у виска…
Только шорох.
4
В токе крови осиные жала
Острых граней песчаных кристаллов.
Охнул старый, за сердце схватился,
На колючий песок опустился.
Как зовут пилигрима? – Иуда.
Он – куда? – Никуда. Ниоткуда.
* * *
Бред тополей: мы небесам опоры,
Что нам сожженье падшего листа,
Псов ничьих озлобленные своры…
Дымы горьки, костры косы и скоры.
Ветер петли рвёт и рвёт запоры,
Чтоб ворвавшись охнуть: пустота…а…а.
Вернётся жизнь? Вернётся. Да не та.
Вернётся брат – я не узнаю брата,
Вернёшься ты – я отвернусь. – Не ты!
В мокрых клумбах мёртвые цветы
С запахом грибницы и муската.
Луна красна и небо красновато.
Город мёртв. Глаза его пусты.
СТАРЫЙ ХУДОЖНИК
Октябрь. Париж. Старик рисует Сену,
Наклонный дождь меж старых красных стен –
Свидетелей любовей и измен.
И женщину – как элемент пейзажа.
Октябрь багрян и жёлт. Сон Сены чёрен. Сажа
Воды в тени моста. И женщина ничья –
Ничья печалью и ничьей пропажей
Бредёт сквозь дождь в сиреневом плаще.
Без имени. Так… женщина вообще.
Ей тридцать семь. Она вплывает в осень
Легко как синий дым каминных труб.
Мазок широк, мастеровит и груб,
И равнодушен. Старость, стылость, осень
И что стараться… женщина уйдёт,
Покинет этот холст. И заживёт
В далёком субтропическом пейзаже
Ничьей печалью и ничьей пропажей…
Старик вздохнёт и контур женский смоет
Водою ржавой что стекает с крыш.
В прятки – с жизнью, в поддавки – с судьбою.
(Краски, кисти, холст – само собою…),
Осень. Одиночество. Париж.
Париж, 1992.
ЦИРК ЛИЛИПУТОВ
Карлик старый на шаткое встанет,
Вверх рванётся, все жилы порвёт…
Но картонное небо –
Достанет!
И горбунье звезду –
Сковырнёт!
* * *
Тоска по привычке,
Печаль без конкретной причины,
Кручина – всего по кончине
Последней оплывшей свечи,
Размышленья о бренном и тленном…
Напиши мне о второстепенном.
О главном молчи.
Писем из Тель-Авива медленное теченье.
Месяц – на разнышленье,
Месяц – туда, месяц – ответ обратно.
Вот уж лимон на окне расцвёл.
Расцвёл – и пахнет приятно
То ли воздухом Тель-Авива,
То ли греческим одеколоном.
Девочка с аккордеоном,
Песня Сольвейг на школьном балу…
Я угрюмо курю в углу
Где кончается детство.
Где и в старости некуда деться,
Где сплела паутину беда.
Писем из Тель-Авива
Медленная вода,
Да ломоть плесневелого хлеба,
Да водица с родимого неба –
Тепла как остывший чай…
Проблеск молнии, месяц май.
Я шепчу засыпая:
Прощай, счастья не было.
.….….….….….….….….….….….….….….….….….……
Женщина в зеркало глянет и усмехнётся криво,
И скажет невесть с кем споря:
Нет, ну что ты… причина – климат. Такой непривычный климат…
Жаркий и влажный климат на границе пустыни и взморья.
* * *
Букет сирени в сине-жёлтой вазе
В истерике, в нервическом экстазе
Швырнули в стену… На ковре лежат
Обломки вазы, листья, листьев тени,
Соцветия семи сортов сирени
И капли влаги в лонах их дрожат.
Что там стряслось? В измене уличили?
Перепились? Добра не поделили?
Орали: хрен тебе… засохни тля…
Потом притихли, сникли как-то сразу…
И пожалели… зря разбили вазу.
И дорогой ковёр залили зря.
СТАРУХА НА БЕРЕГУ МЕРТВОГО МОРЯ
Жизни нет. Ни травинки, ни вируса.
Выползает кряхтя из «Магируса»
Путешественница… все дела.
Зачерпнула в ладонь: здравствуй синее
Море мёртвое, море красивое…
Помнишь, как я тебе помогла?
Мёртвое Море, 1995.
УЗБЕКСКАЯ МЕЛОДИЯ
О, как красивы старые узбеки
Несуетной библейской красотой.
Варила жизнь… и тёмен, густ настой,
Полуприкрыты бронзовые веки,
Взор патриарший мудрый и пустой –
Вода Зем-Зема, чёрный камень Мекки.
Нет любопытства к миру, нет и страха
В сожжённой солнцем старческой груди.
Не первый – но из тех кто впереди,
Китаб Судеб – в сухих руках Аллаха…
Пей терпкий чай, молись в тени и жди.
Из праха был и возвратишься прахом.
Аллах велик и милосерд и славен!
Меж чайханою и Кабиристаном –
Покоем под конец, конечным станом –
Не резок переход, округло плавен,
Как купол голубой над Регистаном,
Который стражем к Вечности поставлен.