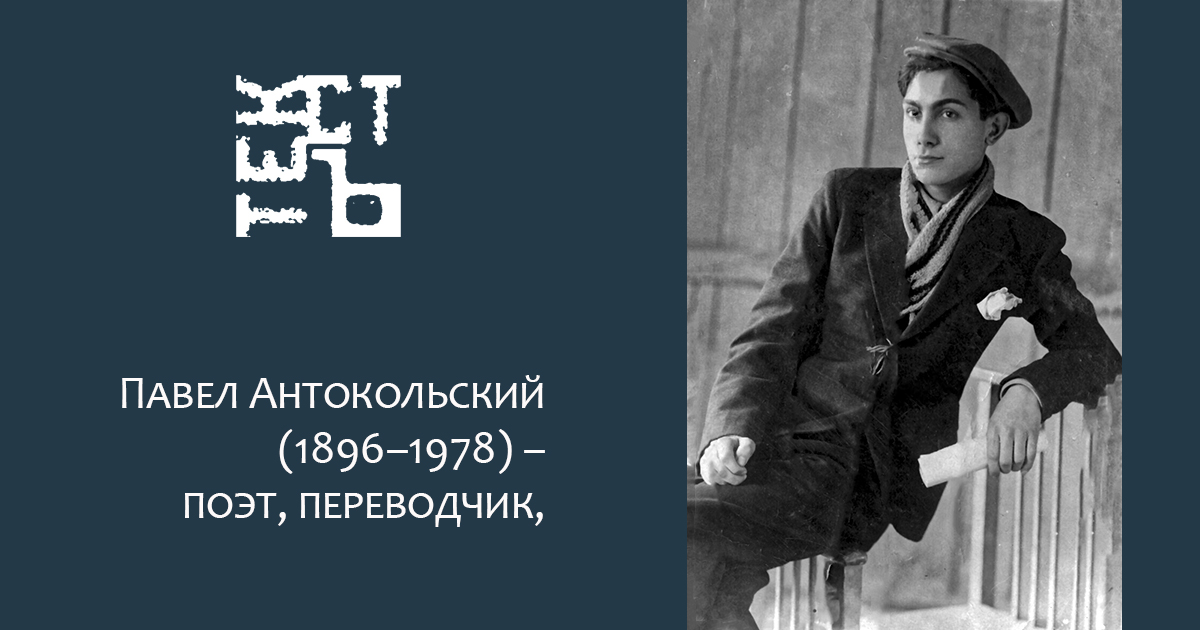ГОВОРИ, ПАМЯТЬ
КИШЛАК БОГУСТАН
Кишлак как рассупоненный верблюд
У тяжких стоп стоглавого Тянь – Шаня
Прилёг вздремнуть. И синь небес тараня
Над ним вознёсся яблочный салют.
Беглец и беженка здесь обрели приют
Гонимые от двух концов Европы.
Сменяв бушлат на старый парашют,
Отец мой польским палашом разрезал стропы
И сплёл мне колыбель. И я родился тут.
Качалась подо мною колыбель
Полунебесная – полуземная.
Не потому ли я во снах летаю,
Летаю, хоть и низко, и теперь.
Кишлак большие звезды мыл в реке,
Был непричастен к преступленьям века,
А имена Эхиел и Ревекка
Звучали на таджикском языке.
КАРАВАН
По переулку нашему тоскою,
Небыстрой, остро пахнувшей рекою,
Течёт верблюжий караван сквозь сон
В послевоенном детстве полудиком.
В халатах рваных и с гортанным криком.
Что вёз в тюках он? Миро и гвоздику?
Куда шагал? Из Шаша в Ашкелон?
Петля времён, постылое горнило –
Восток, восток… Здесь будет всё что было.
И память хромосомная хранит
Верблюжий грубый профиль горбоносый,
Пустынь азийских плоские подносы –
Диаспору моих могильных плит.
В тот год наш фараон бессмертный помер.
Рамзес? Тутмос? К тому же стёрся номер,
Проставленный жрецом на мумии его.
Но в цирке старом на большом манеже
Все номера знакомые, все – те же.:
Разор и смрад, и запах крови свежей…
Инсульт его разбил. Я выжил оттого.
Потом семь тучных, сорок тощих лет
Народ хранил властителя завет
И часа ждал. И час уж на пороге.
Зачем же снишься, детства караван?
Зовёшь покинуть мой Мемористан,
Ты опоздал и нам не по дороге.
ЧАСЫ
Пятьдесят четвёртого зима.
Нет, ещё не нищенства сума –
Просто бедность.
И на детской коже моих щёк
Не чахотки розовый цветок –
Просто бледность.
Доктор Шепель весел, толст и стар
Отвергает жалкий гонорар
Без коварства:
Курицу и молока купить,
И лимон, и чай с малиной пить –
Все лекарства.
Вот везёт двенадцатый трамвай
Маму на ташкентский дальний край –
Час тащиться.
Там, оставив часики в залог,
Денег подзанять, чтоб смог сынок
Подхарчиться.
Дядя Изя жадничать не стал
И пятьсот рублей охотно дал –
Дней на десять.
Таки корпус, правда, золотой?
Ой, а что же лёгкий он такой? –
Надо взвесить.
Изя – наша дальняя родня,
Тощий как колхозная свинья
Ушлый малый.
От погрома спас его мой дед,
Взял в семью, и жил он восемь лет
Приживалой.
Точно в срок мы с мамою вдвоём
Дядя Изе долг отдать идём
В Старый Город.
Солнце, снег и чуть глаза болят,
И с сосулек капельки летят
Мне за ворот.
Дядя Изя денег не принял,
В грязных пальцах дрожь слегка унял –
Нет залога!
Чтоб твой мальчик так нам был здоров,
Ой, пришли, ой, пили мою кровь –
Бойся бога!
Я бедняк и сам кругом должник.
Ой, такой был хай, такой был крик –
Вплоть до драки.
Я несчастный и больной бедняк,
Вот смотри сюда – какой синяк…
Тоже враки?
Прятал он хитрющие глаза,
И катилась мамина слеза
К подбородку.
И тогда я, слабый, озверел,
К плоти его плотно прикипел,
Впился в глотку.
А наглец визжал – уйми байстрюк,
Он порвёт на мне последних брюк,
Нету смены!
Чудеса творит двадцатый век.
Жив! В Нью-Йорке этот человек.
Бизнесмен он.
Подарил часы те маме брат.
До войны купив, на рю Мюрат,
В синей Ницце.
В сорок третьем под Орлом погиб.
У меня бровей его изгиб
И ресницы.
Я работал, пил и бросил пить.
Маме всё часы хотел купить –
Золотые.
Сам не знаю ждал какого дня,
Сны дурные мучали меня,
Бабы злые.
Суета сует – ей грош цена
Всё смешала»: лица, имена,
Сказки, были…
Вот твои часы, прости мне, мать.
Но зачем ей время наше знать
Там, в могиле.
Mister OxmanOхman, How do you do?
Вам теперь хватает на еду –
Старой кукле?
Жизнь прошла, а вы всё снитесь мне.
Но далёк как кратер на луне
Остров Бруклин.
ДРУГ ДЕТСТВА
Большой старик – шутник жуликоватый
В грязнейшем пиджаке, подбитом ватой,
Знаток всех тупиков, герой труда,
Последний на планете керосинщик,
Водитель кляч, свар уличных зачинщик,
Он с детством нашим сгинул навсегда.
Последний керосинщик громогласный,
Жестяный рупор, вопль картавый, страстный
И примуса слепящий медный бак.
Вкус в постном масле жареного хлеба,
Змеёк с катушки тянет нитку в небо,
На крышах земляных цветущий мак.
.….….….….….….….….….….….….……
Как живёшь, дружище? – Доживаем…
Подвезти? – Спасибо, я – трамваем.
Посидеть бы, вспомнить? – Как-нибудь…
У него гастрит, машина «Нива»
И жена распутна и ревнива,
А в глазах тоски сырая муть.
Но улыбка добрая как в детстве.
Я приду к нему, куда мне деться
И с собой «Ноль восемь» прихвачу.
А жена, швырнув на стол закуску –
И евреям надо пить как русским
Водку? Есть сухое. – Не хочу.
Недомолвок жалкое кокетство
Отойдёт. Обоим снится детство.
Это знак конца пути. Пора!
Жёлтый колер фотографий старых,
Справа я, а слева он с гитарой,
Голубятня на краю двора.
Пятьдесят шестой таким был длинным,
Взрослые шептались – ну, дела…
Обманула века середина,
Всех своих мальчишек подвела.
ТАШКЕНТСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
1966-го.
Город мой – где он? – Где Троя Приама.
Сень вишенья над приземистым домом,
Дома живая нестарая мама. –
За горизонтом, за окоёмом.
Глиняный город, каркасный, нестойкий.
Бакинской резней, кишинёвским погромом
Пахнут в палатках больничные койки –
За горизонтом, за окоёмом.
Танки останки урча разминают,
Грезят охватом и прорванным фронтом.
Я скоро узнаю, как там поживают…
За окоёмом, за горизонтом.
ТРИ УРОКА ПОЛЬСКОГО
Изнанка чувств,
Изнанка снов и слов…
1
Забыть по-польски – Zapomniec.
Ты так прочно меня «запомнешь»
Все морщины на лбу соберёшь,
Пальцы к узким вискам прижмёшь,
Будешь мучится, злится… но так и не вспомнишь
На кого тот бродяга похож.
2
Красота по-польски – Uroda.
Весной шестьдесят первого года
Я прилежно учил польский.
И уже шипелось похоже:
Бардзо добже панове, пшепрошу…
Но на «уроде» споткнувшись,
Ученье надолго заброшу.
Очень трудный язык – польский.
Юбка – колокол, юные плечи и грудь
Под прозрачным нейлоном. Растрёпана чуть
Причёска: Бабетта идёт на войну.
На фотографии надпись: «Люби меня вечно, одну,
Вот как я хороша!»
Прекрасна была мода
Шестьдесят первого года.
Для чего ж красоту – «урода»?
Для подначки, для куража?
Теперь на дворе мода
Девяносто первого года:
Израиль, Германия, США.
Ах как ласкова, как хороша
Была девочка в час прощанья.
Распрощались. Стоял старый,
Прижавшись спиной к чинаре,
К жёстким капам, к наплывам грубым.
И подбирали губы
Для красоты слово,
Для весны девяносто первого года…
Я польский учу снова.
Красота по-польски – «урода».
3
Памятник по-польски – Zabytek
Простецам, мудрецам знаменитым,
Тихо умершим, в сварах убитым,
В яры брошенным, дёрном прикрытым,
Всем ушедшим за край бытия
Полагается камень – «забытек» –
В дар от вечного забытия.
РЕЧКА САЛАР
Салар – чистая речка детства –
Ныне зловонный сток,
Глубиной по колено,
Шириной в газетный листок.
Вытекает моё поколенье.
Пятна нефти, фекальные сбросы,
В мёртвый Арал, в ядовитые росы –
Узбеки, евреи, великороссы:
Обломок бокала, огарок свечи…
Люминесцентно светит в ночи
Фирменный знак: «Сделано здесь,
Последняя четверть века».
В мёртвой медленной зыби луна
Красна как трахомное веко.
Объявленья обрывок: «Ищу человека…
Омывает синильное млеко
Мышьяковые берега.
Вытекает моё поколенье.
Неопознанное явленье!
По берегам и из тины дна
Что-то растёт. И обильно – НА!
Купоросно – зелёное, наглое, нищее:
Это не рай – это ад – грасс.
Следовательно, сэр Чарльз,
Эволюция продолжается.
И не подспудно – всё наяву.
И спирали её расплетаются,
Выгибаются в тетиву.
Ядовитую эту траву
В плоть свою переварит новая,
Невиданная популяция,
Та, что в жизнь выползает из жижи
На выщербленный бетон…
.….….….….….….….….….….….….….….…
В Беер-Шеве, Нью-Йорке, Париже
Вспомни ту речку детства – Данька по кличке Дантон.
Вспомни… Мы в ней тонули,
(Были такие места),
И сжав зубы друг друга тянули
К спасительной кромке моста.
Её милосердная сила
Пожалела нас, отпустила:
Живите, держитесь, братцы,
Друг за друга не только в беде.
Всё прошло. Протекло. Не пробраться
К детства чистой и быстрой воде.
Ташкент, 1989
АЭЛИТА
В горле серый, продолговатый,
Жёсткий как сырая фасоль налёт.
Пятьдесят пятый год.
Я умираю от дифтерита.
Мать, ещё молодая,
Себя и меня отвлекая,
Читает мне вслух. «Аэлита.»
Аэлита на Марсе живёт.
Аэлита на Марсе живёт,
Где теплится жизнь еле – еле.
Фиолетовые метели
Тускубов дворец замели.
От родной Атлантиды вдали
Её красота неземная
И нежность её – ни к чему.
Холодно сердцу и пусто уму,
Стара, равнодушна элита.
Я кричу: Я люблю тебя Аэлита!
Я к тебе полечу, я готов, я сумею,
Равнодушное сердце любовью согрею.
Я готов, я на сходни всхожу корабля,
Без печали со мной расстаётся Земля
И не тянет назад притяженьем земли.
Вот и всё. Только где же ты о, Аэли …и…
Жаркие губы разжавши едва
Задыхаясь я выхрипел эти слова
И замолк, завершив свой недолгий полёт.
Мать говорит: Отёк и удушье. Сейчас он умрёт.
И до смерти своей – от пелёнок,
Что он видел хорошего, этот ребёнок?
Ах, за что Бог так мстит – я не знаю вины.
За богатую лёгкую жизнь до войны?
За Венецию, Ниццу и привкус вина?
Отец говорит: Нет, это мне. Неизбывна вина.
Я ушёл, но с собой не увёл никого…
Жар печей Освенцима сжигает его.
Аэлита подходит тиха как вода:
Ну куда ты собрался так рано, куда?
Глянь в окно. Там февральское солнце,
Сосульки цветные висят.
Я тебя позову, призову, но не скоро.
Тебе будет за сорок,
А может – и за пятьдесят.
И когда за согбенной спиною
Встанет жизнь из забот и труда,
Я приду: обниму, поцелую
И на Марс заберу навсегда.