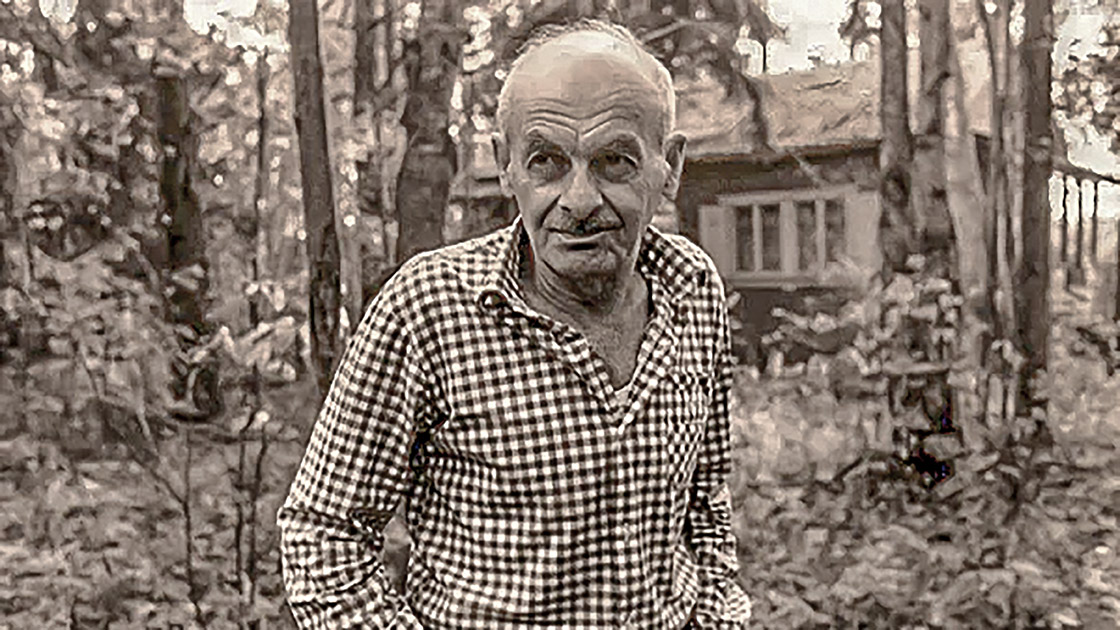II.
КАРИ
Запоздалый дебют
…Шел 1974-й год. Кто-то из московских друзей Кари, через знакомого передал редактору журнала «Смена» подборку её стихов. Редактор в свою очередь переправил стихи Борису Слуцкому «на экспертизу». Поэт никогда Кари не видел, уже редко с кем встречался и был болен. Стихи прочитал и вернул их в редакцию со следующим текстом:
«С тех пор, как первый поэт на земле, прислушавшись к зарослям, решил, что нет в них ничего ему ближе и роднее соловья, и до нашего времени, до удивительного соловья Николая Асеева и замечательной соловьихи Бориса Корнилова, пели соловьи в стихах.
Кажется, о них все сказано.
Но вот приходит новый поэт и дерзостно называет заглавное стихотворение тем же прославленным именем – «Соловей»
Кудрявый арап
В царскосельских медвяных садах
Напоен и напитан
И прислан в наш лес отдаленный
Чтоб силок получить
Или пулю в пернатый висок
Или счастья искать
В неразрывных морозных тисках
Или дальше лететь
А сюда заглянуть на часок
Или камнем упасть
Или песни плясать или петь…
Так еще соловья не называли ни Фет, ни Омар Хайям, ни сам кудрявый арап в царскосельских медвяных садах – Пушкин.
Откуда это берется у Кари Унксовой? – пишет дальше Слуцкий … От многознания, от многочтения, от внимательной любви к литературе, русской и мировой? Трудно сказать. Стихи редко пересказывают жизненные наблюдения. В стихах дорога от ощущения к слову сложнее, извилистее.
Осенние прошли дожди. Но холод
Еще не пронял рощи. Сухо иней
Не лег на листья. И ольха глухая
Не отроптала ветру. Только август…
И так далее – всего 13 строк и ни одного неточного, более того, ни одного лишнего слова – слух обострен настолько, что иногда ухо ловит слишком много звуков…»
Этот отзыв Б. Слуцкого был напечатан перед подборкой из пяти стихотворений и стал как бы напутственным словом, так было тогда принято. А Кари Унксова единодушно признана читателями и редколлегией поэтическим лауреатом года журнала «Смена». Эта публикация, под названием «Первая встреча с поэтом», была единственным за всю жизнь Кари актом бескорыстия и доброй воли по отношению к ней как со стороны старшего собрата по поэтическому цеху, так и со стороны издателя.
О поэте и судьбе
Как-то в одной частной беседе, в которой было произнесено имя Кари, Давид Самойлович Самойлов (поэта часто посещали в его пярнуском уединении «ходоки» из Таллинна, местные поэты и просто почитатели), так вот, он обмолвился, что поэт – это божий дар плюс судьба. Очень тогда возбудились наши молодые таллиннские поэты, гадая, есть ли у них судьба и примеривая это определение к себе. Сам себе поэт судьбу пишет или она ему предначертана? Кто-то спросил, а кого Давид Самойлович может назвать из тех, чьи стихи он слушал? Самойлов сказал – Кари Унксова.
С её интеллектом и интуицией она определенно обладала даром предвидения, в том числе и собственной судьбы, которая не сулила ей ни долгой жизни, ни мирских благ. Откуда явилось ей это знание? И осознание того, что уже не уйти с этого пути и никуда не свернуть? Никогда не говорила Кари об этом всуе. Эти «масонские» знаки судьбы разбросаны в её стихах. Самойлов – искушенный опытный мастер, прозрел этот редкостный дар, лишенный какого-либо поэтического кокетства и позы.
Перечитываю – в который раз! – «Венок сонетов». Он написан по классическим законам жанра на тему Поэт и Судьба на одном дыхании, подвластном лишь виртуозу. Ожерелье из 14 поэтических жемчужин, в каждой из которых 14 отточенных строк; венок замкнут 15-м сонетом, которому каждый из 14-ти отдал свою первую строку, силу мысли и образность.
Пробную читку своего «Венка» Кари устроила на нашем маленьком собрании у Жени. Свернутую в трубочку машинописную копию «Венка» подарила мне на день рождения. Я извлекаю иногда драгоценную рукопись из папки и думаю с горечью, сколько же наберется нас, тех, кому довелось его прочитать и испытать потрясение?
…Она достаточно долго вовсе не считала себя в какой-либо оппозиции кому-либо. её изумляла реакция на её стихи редакторов и поэтов, с которыми ей довелось встречаться, до того самого дня, когда она навсегда прекратила общение с редакторской и литературной братией; но тогда ей просто не приходило в голову, что сам её образ жизни, способ её поэтического, философского осмысления, признание своей ответственности художника только лишь перед Богом, в те времена, сами по себе, уже были оппозицией и вызовом.
Попытки литературных контактов
Публикацию в «Смене» и лауреатство года в этом журнале Кари восприняла как естественное начало официального признания, да и мы тоже. Вот уже почти 30 лет лежит у меня в папке с надписью «Кари» этот журнал 74-го года, развернутый на странице с её стихами. Начало и оно же конец, но разве мы могли поверить в это? После своего дебюта Кари сделала несколько попыток контакта с официальной литературной жизнью. Так, она рассказала в одну из наших встреч о своем участии в творческом семинаре молодых поэтов Северо-запада в Ленинграде, так, кажется, называлось это мероприятие регионального масштаба. Секции по жанрам, чтения, обсуждения…
Кари попала в секцию, которой руководил поэт А. К., талантливый, уже известный, со своей нелегкой издательской ситуацией, среди поэтов – безусловный авторитет. Кари прочитала несколько стихотворений и начала поэму «Письма Томаса Манна», как аудитория заволновалась, поэты загудели, чтение прервали, все переходило в скандал. Руководитель, «он был такой бледный, худенький», – рассказывала Кари, был очень расстроен, в гневе и печали он повторял, что у её поэзии нет будущего, что это тупиковый путь, он ведёт только к разрушению, и она, Кари, – разрушительница. Чем все это закончилось? Кари собрала свои листочки и тихо выскользнула из аудитории семинара. Это все.
При всем своем неведении относительно советских издательских правил Кари понимала, что рукописи из «самотека» заведомо обречены на забвение. Уж кто и как свел её с редактором одного из столичных издательств, я не знаю, но в кабинет она проникла, имела беседу и оставила сборник стихов «Аппиева дорога» с поэмой того же названия. При второй (и последней) встрече, Кари рассказывала, редактор был хмур, в глаза не глядел, сказал, что от названия само собой следует отказаться, долго перебирал страницы и сказал еще, что нет стихов, которыми можно было бы начать сборник. Может быть, она поищет такие стихи? Я сразу представила, как доброжелательно и спокойно выслушала Кари его замечания, обещала, что поищет, и покинула кабинет. Навсегда.
…Побывала она однажды в Москве и в гостях у знаменитого Евг. Евтушенко. Он слушал внимательно и хорошо, целовал на прощание руки, говорил, со слезой во взоре, что в России появился еще один великий поэт. Этим дело и кончилось.
…Была еще одна встреча в Москве, которая, кажется, и поставила точку в подобных попытках. Каким-то образом переданы были стихи и поэмы Кари уже известной тогда поэтессе Ю. Мориц. Кари рассказывала о встрече, которая состоялась чуть ли не в каком-то московском кафе. Ю. Мориц пришла в сопровождении какой-то «маловыразительной девицы, из свиты», как сказала Кари. Сидели какое-то время молча. Мориц дымила сигаретой, рассматривая Кари в упор, затем сказала – цитирую почти дословно, как слышала: «Мы сами открыли эту дверь в шестидесятые и крепко захлопнули её за собой; ваше поколение пусть попробует сделать то же самое. Мы вам не помощники. А что касается ваших стихов – вы законченный, сложившийся поэт и в моих советах не нуждаетесь», – и резко отодвинула от себя рукопись. Кари сказала тогда еще, что Юнна Мориц была похожа на умную и сильную волчицу. Добавила, что сказанное ею было, пожалуй, самым откровенным и ценным из того, что довелось ей услышать от собратьев по перу.
И оставалась еще, конечно, оценка старого поэта, которому не было дела до литературных амбиций, политики и прочих игр, а до одного только – собственно поэзии, качества текстов неизвестного поэта, что случайно попали к нему в руки и не вызвали ни агрессии неприятия, ни чувства безразличия к их судьбе…
* * *
Постом постом я напишу стихи
Потом пойму – их некому читать
Постом постом я замолю грехи
Потом пойму – их некому прощать
Неумолим звезды парящий диск
Остыло небо и уходит друг
А в глубине слепящий обелиск
Обводит тенью осиянный круг.
О погоди побудь со мной побудь
Подай мне год хоть день
хоть чуточку минут
Хоть вспомяни меня когда-нибудь.
Заря встает и петухи поют
Куда идешь, усталый человек?
Почти размотан маленький клубок
Исчислен диск и обозначен век
И ты бредешь на выгнутый восток
И хриплые деревья цепи рвут
Вдогонку воют чуя мертвеца
Благословен ли постоянный труд
Идти в восток, не ведая конца?
Кузнец, Кузнец – от кованых сапог
Смотри, уж не осталось ничего
Отец, Отец – взгляни на раны ног
И пожалей о нищенстве его.
…В Таллинне вышли вдруг один за другим сборники местных молодых и едва оперившихся поэтов, а некоторые даже были приняты сразу в ССП, как многообещающие талан ты. Это сильно нас подбодрило. Разумеется, Кари не могла претендовать на издание «Аппиевой дороги» хотя бы потому, что была «чужая», питерская. Но к этому времени, уже душевно привязавшись к Эстонии, она написала и прочитала нам чудесный цикл стихов о ней, полный нежности и особого состояния, присущего её городам и пейзажам, сокровенного проникновения в тайну печали, разлитой «за привитым модерном полей».
…Уезжала в Израиль Беата Малкина, близкий друг Кари. Вслед за ней потянулись тартуские знакомцы Кари, филологи, оставив ей на прощание кучу подстрочников из эстонской поэзии, ибо возникла идея – почему бы Кари не заняться переводами, хотя бы идля заработка? Кари тяжело переживала отъезд друзей. И Таллинн, и Тарту опустели для нее.
* * *
Оставляю свой стол одинокий
Оставляю бумаги и книги
Остаюсь напоследок с друзьями
Собираю последние миги
За одними сидели столами
За одними столами сидели
Говорили одними словами
И одними глазами глядели
Ничего уж теперь не поделать
Бог на помощь, счастливой дороги
Как вы там дорогие придете
На чужие чужие пороги
Не волнуйся, кричит отлетая
Эта пестрая черная стая
Не волнуйся, о нас не заботься
Головою себе не морочься
И пустыми заходит кругами
Над песчаными над берегами
Ах Беата Иосиф и Цезарь
Даниил и Ноэми Ноэми
Не собрала Белая церковь
Попрощаюсь со всеми со всеми
И в притворе оставленном тихом
С мылом вымою темные сени.
… Я предложила тогда Кари останавливаться у нас. Мама обычно уезжала в свой домик, в Скадовск, и оставалась на юге с апреля по октябрь. На это время её комната в полном распоряжении Кари. Мама поставила на стол старую-престарую немецкую «Эрику», пишущую машинку, купленную ею когда-то после войны у офицера на рынке, и вопрос был решен.
В Таллинне появляется Сергей Довлатов
Они не были знакомы в Ленинграде. Сережа, как выяснилось, даже не слышал её имени. Но Кари слышала о нем, знала в лицо и заинтересованно меня расспрашивала. Я рассказывала ей то немногое, что знала. Его привел к нам Миша Рогинский и представил как своего ленинградского приятеля, писателя и журналиста, который хочет пожить в Таллинне.
Кто такой Рогинский? Журналист и сам бывший ленинградец. Фигура в своем роде уникальная на фоне партийной таллиннской журналистики, а может быть, и не только таллиннской. Сын репрессированного в 30-е годы крупного специалиста; голод и детский дом в годы войны в эвакуации; смешно об этом рассказывает, без всяческого надрыва и жалости к себе, осиротевшему тогда ребенку; уверяет, что девственность потерял именно тогда, в постели воспитательницы, которая отогревала его своим телом… А вообще, красавец и шармер; инженер по образованию, он стал журналистом и считался в среде нашей братии «первым пером республики». Никакой административной карьеры в своей газете «Советская Эстония» он не сделал, поскольку был беспартийным. Но главные материалы на первую полосу, доклады для секретарей ЦК и министров, мемуары старых большевиков – все это была его креатура. Блестящие способности, эрудиция, беспринципность и любовь к журналистике сделали его профессионалом высочайшего класса.
Я рассказала Кари о маленьком эпизоде в баре Дома печати, куда я зашла выпить кофе с коллегами. Шел обычный треп о том, о сем; похмельный Михаил дремал, не принимая участия в разговоре. Кто-то сказал, что по поводу какого-то интервью, взятого Мишей Бушем и напечатанного в газете, требуют опровержения и придется извиняться за вранье… Вдруг Рогинский открыл глаза и хриплым голосом не без патетики произнес: – Тысячи лживых слов вложил я в уста колхозников, бригадиров, академиков, партийных секретарей, и посмели бы они отказаться от них во сне или наяву! – закрыл глаза и опять погрузился в дрему.
Позже, когда он пристроил-таки Довлатова в отдел информации «Советской Эстонии», Сережа очень уж ядовито прошелся по поводу Мишиного журналистского рвения. Михаил, несмотря на свою профессиональную неуязвимость, в остальном обидчив и тщеславен, как дитя. Он вспылил: – Но ведь и ты, Сережа, зарабатываешь на жизнь в партийной газете, – на что Довлатов тут же нашелся: – Но ведь я стараюсь писать плохо…
Еще до того, как не было у Сережи никакой работы и он очень нуждался в деньгах, Михаил привел его ко мне на Эстонское радио. Мы стали думать, что бы такое он мог быстренько сделать.
В эти дни в Таллинне был на гастролях Ленинградский театр Комедии, который привез спектакль Петра Фоменко «Троянской войны не будет» по пьесе Жироду. Я делала передачу об этом спектакле, уже записаны были интервью с Фоменко и сцена из спектакля. Сережа сказал, что главную женскую роль играет его знакомая, актриса Антонова, и он идет её сегодня навестить, причем вместо цветов понесет банку кальмаров,
«она их любит». Тут я и предложила ему сделать комментарий о малоизвестном нам авторе-французе и его пьесе. Сережа охотно согласился. Не знаю, смотрел ли он спектакль, но комментарий принес на следующий день и я записала его в студии. Я сдавала передачу главному обычным порядком, поставила пленку на магнитофон для прослушивания, включила и осталась, как всегда, в кабинете, когда кроме текста требовали пленку. Игорь Евгеньевич Кононов, тогдашний главный редактор нашей русской редакции, спокойно слушал. Вот барственным Сережиным голосом зазвучали первые фразы:
«Морозный блеск парадоксов Жироду… отповедь высоколобым интеллектуалам… левацкая французская элита…» и далее в таком же духе. Главный редактор стал багроветь. Он не то чтобы слов таких не знал, просто подобной лексики никогда ни на нашем радио и ни на каком другом, тем более всесоюзном, отродясь не бывало и быть не могло. «Смысл! – кричала я ему – вслушайтесь в смысл!» Но это было бесполезно. Приговор был краток – так и быть, в эфир пойдет, но в первый и последний раз… Я вам говорил неоднократно, Татьяна Алексеевна, у нас дефицит авторов с эстонскими фамилиями, ищите их… способных разговаривать на радиоязыке, понятном и академику и рабочему… объясните это вашему Булатову…
– Довлатову…
– Все равно… как-нибудь необидно, разумеется…
Сережа получил свои 12 р. за комментарий, и на этом закончился его допуск к эфиру.
– Ну почему, почему Игорь так Сережу обидел? – негодовал Михаил, когда я передала ему всю эту сцену. Но вскоре, как я уже говорила, ему удалось устроить Сережу в свою родную редакцию.
Кари спрашивает, дружим ли мы с Сережей. Да нет… так, приятельствуем. Рассказываю о том, что вокруг Довлатова образовалась в Таллинне большая компания, в которой крутятся его коллеги по Дому печати, знакомые коллег, знакомые знакомых и так далее. Похоже, что Таллинн для Сережи большая «расслабуха» после Питера. Иосиф иногда посещает эти сборища, но я туда не ходок, пьяные и ночные, в основном, бдения не по мне, не люблю, да и времени нет. Сережа, при своей колоритной фигуре, остроумии и ореоле «столичности», конечно, центр этого коловращения. Что и когда пишет, не знаю. Для интеллектуального, так сказать, общения наезжает в Питер, там его друзья. Впрочем, у нас он бывает, в основном после бани, трезвый и без приятелей. Человек он обаятельный. Эти посещения я очень люблю. Вкусно кормлю и на стол накрываю особенно тщательно. Сережа спокоен, рассказывает разные байки про свою питерскую жизнь, вроде того, как служил секретарем у писательницы Веры Пановой. Она была уже прикована к постели, он ей читал вслух, иногда они говорили о литературе; если Сережины мысли ей не нравились, она кидалась в него маникюрными ножницами, ну и про разное, в таком духе. Пока я накрываю, Сережа ходит вдоль книжных полок, вынимает то одну книгу, то другую, иногда стоя зачитывается. Поглядывает на стол и шутит, между прочим, очень сдержанно, вроде:
– Салфетки, мельхиор, бокалы… это обязательно?
– Обязательно.
– А так, чтобы селедка… на газете… нет?
– Никогда, – говорю я, любуясь своим столом.
Не знаю почему, но я всегда интуитивно чувствовала, что тотальное безобразие быта, в котором он пребывает сотоварищи, претит и ему, но он этим бравирует, а я терпеть не могу и не скрываю.
Сережа и Ося придумали себе ежедневный совместный заработок, Сережа информацию в номер, Ося фотографию к ней. Что-нибудь о «героях наших дней», портных, продавцах, моряках или ученых. Пять рублей за информацию, три за фотку. И все это до начала газетного рабочего дня. Теперь нам и будильник не надобен, – каждое утро в полседьмого телефонный звонок и бодрый Сережин голос в трубке:
– Доброе утро, Танечка, толкните Оську ногой, пора вставать и идти деньги зарабатывать.
– Надо же, – говорил, беря трубку, Иосиф. – Всю ночь гудел, а в шесть уже на ногах…
– Самодисциплина, сынок, тебе этого не понять, – важно говорил Сережа.
– Ну да, как же… Ты просто вон, какой здоровый, ничто тебя не прошибет…
Вечером Ося рассказывает:
– Идем сегодня с Сергуней на дело – я ему говорю:
– Ты бы хоть что-нибудь заранее узнал об этих световых неоновых трубках, ты же ничего не понимаешь в рекламе. – А он: – Мне ничего не нужно понимать и знать, я уже все написал, только фамилии поставить…
Проходит какое-то время, и в один из приездов Кари опять расспрашивает о Сереже Довлатове. Читала ли я его произведения? Я отвечаю, что только «Зону», повесть, составленную из лагерных рассказов. Сережа отбывал армию на Севере, охранником в лагерях уголовников, вот на этом материале… По-моему, написано талантливо и очень интересно. Но рукопись не принял ни один из толстых журналов; Сережа показал нам некоторые отзывы, пишут, автор способный, но идеологически – незрело, романтика уголовщины и все в таком духе. Показал сильно потертый журнал «Юность», там его рассказ. Послал пять – и надо же, напечатали этот, худший из пяти, которого он стыдится, – сказал это Сережа с некоторой деланной мрачностью.
… Приезжала в Таллинн дочка Сережи Катя с бабушкой Норой Сергеевной, Сережиной мамой. Мы познакомились. Такая пожилая дама со следами былой красоты и замашками светской львицы. Во время этого визита Сережа был напряжен, ходил мрачный и потом сказал мне:
– Ничего не могу с собой поделать, я безумно люблю их и скучаю, и так же безумно они меня раздражают, когда с ними общаюсь…
Как-то Сережа попросил меня помочь Норе Сергеевне сделать маленькие покупки в таллиннском универмаге:
– Танечка, вы единственная из моих знакомых таллиннских дам произвели на маму хорошее впечатление…
И, передавая мне Нору Сергеевну, грозно её предупредил:
– Мама, прошу тебя иметь в виду, Таня очень занятой человек, у нее редакция, сексуальные проблемы у пуделя Макса, сын завел любовницу… Нора Сергеевна воззрилась на меня с изумлением:
– Сколько же лет вашему сыну?
– Ему 13, Нора Сергеевна, Сережа сильно преувеличивает, не обращайте внимания, я охотно вам помогу…
Кари попросила, при случае, познакомить их, и я это ей обещала.
… Вместе с Кари в мамину комнату вселилась и легла на стол подле машинки папка, прочно и красиво слаженная чьими-то ловкими и умелыми руками, обтянутая холстиной и снабженная затейливым металлическим замочком. В нее Кари бросала, приезжая «с Маркса на Маркса» (наши улицы в двух городах носили одинаковые названия), вторые и третьи экземпляры новых стихов, в ней держала подстрочники переводов, над которыми работала. Иногда эта папка ждала свою хозяйку в Таллинне месяцами, я напоминала Кари о ней, она беспечно отмахивалась – я ведь вернусь!
В свои наезды Кари теперь получала ключи от квартиры и жила совершенно свободно. Сын уходил в школу, мы разбегались по своим редакциям; вечерами нас встречал стрекот машинки за дверью её комнаты, иногда записка, что она срочно уехала в Питер. В папку ложились переводы и новые стихи, и однажды Кари напечатала на отдельной странице: «Балтика, полдень и детство».