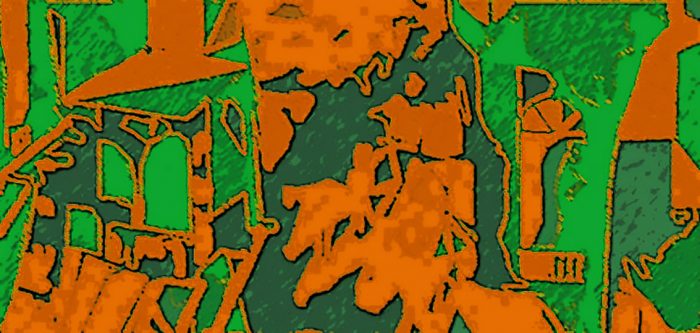Автобиография
В темнице мрачной и сырой,
по родовым путям блуждая,
искал я выхода, мечтая
нащупать почву под собой.
Один во тьме, совсем раздет,
я плыл, не ведая реалий,
через теснины гениталий
и наконец увидел свет.
Увы, едва успев просохнуть,
я вдруг почувствовал с тоской,
как чьей-то крепкою рукой
спеленут – ни вздохнуть, ни охнуть!
Уложен в ряд себе подобных
не знал я правил строевых,
но выполнил беспрекословно
равненье на передовых.
С тех пор, живя в родном краю,
со всеми шел в одном строю.
На крик солиста: «Будь готов!»
хор отвечал: «Всегда готов!»
Мы строем шли, неся портреты
любимого авторитета,
твердя слова в конце куплета:
«Все как один умрем за это!»
В борьбе за ЭТО сквозь года
мы шли сомкнутыми рядами,
и друг мой топал вместе с нами,
как оказалось, не туда.
Я, про себя кляня напасти,
спросил вождя: «Куда идем?»
Ответ был прост: «Идем мы к счастью.
На этот раз другим путем!»
Но в направлении другом
мы не увидели просвета.
Решив не умирать за ЭТО,
мы оказались за бугром.
Теперь брожу в чужом краю –
и без вождя, и не в строю,
тащу сквозь жизни многоцветье
свое шестидесятилетье.
И зрелищ вдоволь здесь, и хлеба,
свободы – от земли до неба,
и этот мир – вполне реален,
да жаль, что я в нем виртуален!
Из детства
Старик Юсуп, кому принадлежал
за двадцать лет до моего рожденья
ташкентский двор, его преображал,
лепя из глины новые строенья.
Когда приумножавшему пора
пришла излишком поделиться с нищим,
Юсуп в чем был убрался со двора,
где в одночасье оказался лишним.
По высшей справедливости тех лет
он был вселен в каморку, где единство
с народом мог крепить, живя в тепле,
и там же проявлять гостеприимство.
Юсуп старел, взрослела детвора,
соседей старых новые сменяли,
не знавшие историю двора,
и старика почти не замечали.
Он, увидав соседа, привставал
с радушною улыбкою восточной
и что-то по-узбекски бормотал,
не прилагая перевод подстрочный.
Привыкший и на русском слышать то,
что ожидал или желал услышать,
сосед кивал, но если б знал на что,
из оболочки собственной бы вышел.
Старик Юсуп мне первым преподал,
и лучше остальных, почивших в бозе,
урок о языке. А я, как мог, воздал
Катта Рахмат ему в стихах и прозе.
Красота
На картонке пожелтевшей
след от жизни отшумевшей...
Кто-то сделал, не подкрасив,
три портрета, три лица –
материнских ипостасей
от начала до конца.
Юность, молодость и зрелость
уместились на картонке.
Видно ей недотерпелось
ждать фотографа в сторонке.
Не успела встретить старость,
но вкусить успела младость,
и лучится красота
с потемневшего листа.
Вьется прядь из-под берета –
довоенная примета...
– Разве есть у жизни вечер? –
распахнулася навстречу
неизведанным желаньям
и томится ожиданьем
безыскусна и проста
молодая красота.
В лике рядом – напряженность,
беспокойство и готовность
быть за все и всех в ответе,
удержать меня на свете,
обменять паек на мыло,
принести украдкой стылой
мне больничной затирухи,
чтоб не помер с голодухи,
поддержать отца в невзгоде,
чтобы боль его не смяла,
хоть он сам был сделан вроде
не из мягкого металла.
Но тревогу и усталость –
непокорна и чиста,
изменившаяся малость
побеждает красота!
Мать ушла, не дожидаясь
мук прижизненного тленья,
в ночь неслышно погружаясь,
как уходит день осенний.
Врач ее не тем лекарством
долго пользовал с улыбкой.
Мать, узнав, сказала: «Право
врач имеет на ошибку».
И без жалоб, чтоб не ранить,
уходила в высоту,
оставляя мне на память
материнства красоту.
* * *
Памяти
Михаила Захаровича Палагашвили
Лукавый гений судьбами играет,
безумный вождь фигуры расставляет –
рожденный ползать – высоко летает,
и вновь сапожник булки выпекает.
Опять с надеждой на святого духа
поет певец, глухой на оба уха,
абсурдный мир остался неизменным –
вор стал судьей, а мой отец военным.
Но был он невоинственным военным,
майором был вполне обыкновенным,
он не любил стрелять из автомата,
маршировать и муштровать солдата.
Считал устав не самой лучшей книгой,
не овладел служебною интригой,
не прятался за младшего по чину,
его вины в себе искал причину.
Он воздавал любому честь по чести,
хоть замечал: не каждый тем же платит;
проживший жизнь без зависти и лести,
отдавший почесть, чести не растратит!
И, как в немом кино, на черно-белой ленте
я вижу – он идет по улице в Ташкенте,
устало козырнул прохожему солдату,
и, к дому не свернув, прошествовал куда-то...
* * *
Памяти
Шаахмеда и Бахри Шамахмудовых.
Ташкент прослыл как город хлебный
по той причине, что узбек
будь он богатый или бедный,
по сути добрый человек.
Пришелец – гость, пусть и нежданный,
единоверец или нет,
блюдя закон национальный,
хозяин дома Шаахмед
откроет дверь, и к дастархану
его с порога пригласит,
и пловом с общего лягана
с лепешкой теплой угостит.
Он исхитрится так иль этак
взрастить чужих – велел Аллах
признать своими малолеток,
пятнадцать пришлых бедолаг.
Тогда не помышлял, что встанет
он в бронзе или чугуне
на площади в Узбекистане
с хромым Тимуром наравне,
что забурлит волна исхода,
в которой устоять невмочь,
от правоверного народа
все дальше удаляясь прочь,
что вслед за Гоголем и Горьким,
чье место отдано траве,
его отправят на задворки
страны с Исламом во главе,
который верным курсом правит,
его традиции живут.
Ему здесь памятник поставят
и по традиции снесут,
но место есть при Тамерлане
фигуре с поднятым перстом;
оно припасено заране
под конским бронзовым хвостом.
* * *
На улице Кафанова в Ташкенте
был детский сад. Им ведал Районо.
Играли в нём неплачущие дети,
не плакали они, я был средь них, поверьте,
хоть плакать было нам разрешено.
Директор сада, немка из России,
нам говорила, глядя за окно,
«Не плачьте, дети, – лишь глаза сухие
увидеть смогут вещи непростые.
Сквозь слёзы разглядеть их не дано».
И мы не плакали, взрослея, и потом,
когда недетские превозмогали боли
от неудач, обид, потерь, неволи,
отчаянье скрывая со стыдом,
признание в бессилии – тем более.
И нынче, отвечая на вопрос,
зачем от слёз удерживаться надо
тем, кто стоит перед лицом угроз,
во мне, дожившем до седых волос,
звучат слова директора детсада.
«Не плачьте, дети, – лишь глаза сухие
увидеть смогут вещи непростые.
Сквозь слёзы разглядеть их не дано».
ВСПОМИНАЯ ЛЕТО 1948 ГОДА
Четыре мангалки дымят во дворе,
тепла поддавая июльской жаре.
Дым горек и едок, аж слёзы из глаз;
не выветрить запахов детства из нас.
В конце переулка в колонке — вода.
Я по два ведра приношу без труда.
Ведро - в умывальник, ведро - для питья,
для стирки - четыре и два для мытья.
Вот мама живая стоит у крыльца,
под вечер встречая живого отца.
На весь переулок - один офицер.
Я видел в его кобуре револьвер!
Сосед Эйдельштейн приобрёл керогаз –
в быту он куда прогрессивнее нас.
То серый пиджак, то зелёный на нём,
а папа всегда в одеянье одном.
Зато у него галифе и мундир,
шинель и погоны - ведь он командир!
Но папа сказал, что погонам не рад,
уж очень ему надоел маскарад.
«Какое враньё!» - восклицает сосед,
шурша за стеною подшивкой газет,
затем поминает какую-то мать,
но эти слова мне нельзя повторять.
Слоняюсь в унынье на пыльном дворе –
не хочется в школу идти в сентябре.
Там только мальчишки, а девочек нет
и стрижка «под ноль» до двенадцати лет.
По этому случаю в детском саду
мы песенку пели в строю на ходу
с припевом, что мы ни за что, никогда
врагу не сдадимся и будем всегда
хранить наши тайны, иначе - позор!
Мы наши границы запрём на запор,
но дальше - ни слова, считайте - забыл:
боюсь, чтоб я тайны какой не раскрыл.
Давно нет мангалок, крыльца и двора,
те тайны раскрыла другая пора,
но тайны своей не могу разгадать:
зачем я в тот двор возвращаюсь опять?