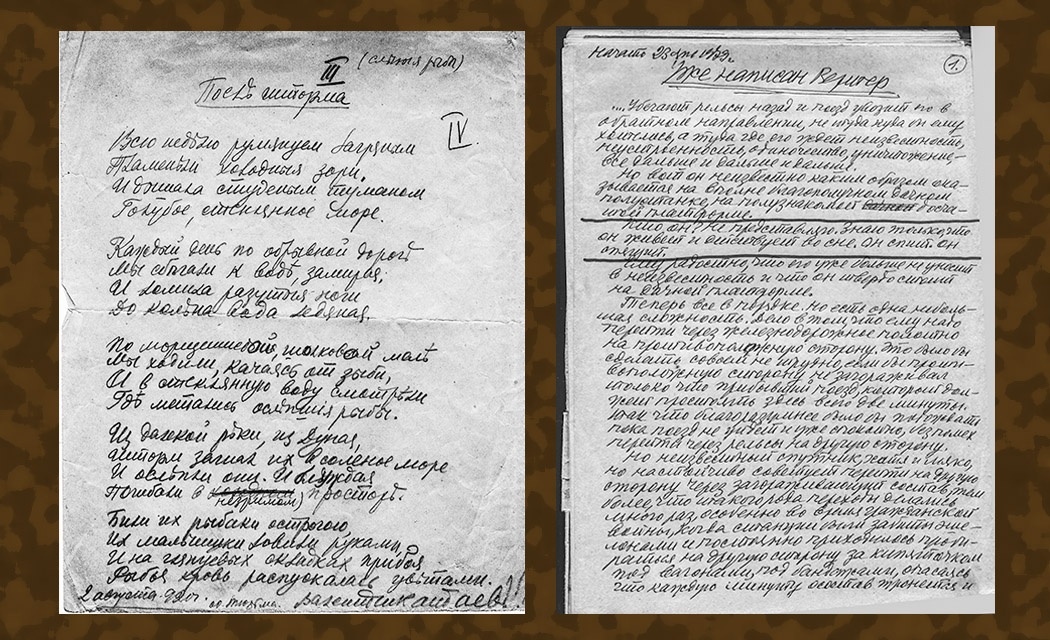Московский дневник Беньямина, посвящённый его двухмесячному пребыванию в Москве с 6 декабря 1926-го по конец января 1927 года, представляет собой, насколько позволяет судить моё знакомство с его архивом, явление уникальное.
Вне всяких сомнений, это наиболее личный, полностью и безжалостно откровенный документ, рассказывающий нам о важном периоде его жизни. С ним не может сравниться ни одна из его прочих попыток дневниковых записей, которые ни разу не пошли дальше нескольких страниц, даже записки очень личного характера, сделанные им в 1932 году, когда он подумывал о самоубийстве.
Перед нами предстаёт законченное повествование о событиях, очень значимых для Беньямина, повествование совершенно бесцензурное, что значит прежде всего: свободное от внутренней цензуры. Все до сих пор известные, сохранившиеся письма дают изложение под определенной тенденцией, в зависимости от адресата. Во всех письмах отсутствует то измерение, которое как раз и содержится и раскрывается в этих бескомпромиссно честных беседах с самим собой и самооценках. Только здесь проговариваются вещи, которых не найти ни в одном из его письменных высказываний. Разумеется, порой, например в сделанных по тому или иному случаю афористических намёках, можно встретить нечто подобное, однако в очень осторожном, «отфильтрованном» виде, прошедшем самоцензуру.
В дневнике же это представлено во всей полноте, в подлинном непосредственном контексте, о котором по тем немногим письмам, что он отправил из Москвы – одно мне и одно Юле Радт, – нельзя было и догадываться.
Три момента были значимы для поездки Беньямина в Москву. В первую очередь – его страсть к Асе Лацис, затем – желание поближе познакомиться с ситуацией в России, возможно, в какой-либо форме даже закрепиться там и в связи с этим принять решение о том, вступать ли ему в Коммунистическую партию Германии, о чем он размышлял уже в течение двух лет. Наконец, определенную роль играло и то обстоятельство, что он еще до поездки получил задания от редакций, так что ему приходилось размышлять о городе и жизни в нем, чтобы составить некий «портрет» Москвы. Ведь его пребывание в Москве отчасти финансировалось за счёт авансов, полученных в счёт статей, которые он должен был привезти из поездки. Четыре статьи, опубликованные в начале 1927 года, – результат выполненных Беньямином договорённостей, в первую очередь это касается большого очерка «Москва», написанного по заказу Мартина Бубера для журнала «Die Kreatur». Эта статья представляет собой переработку – зачастую достаточно сильную – непосредственных впечатлений, занесённых в дневник. Их точность поистине поразительна, это точность, в которой с редкой интенсивностью сочетаются наблюдательность и воображение.
Живые зарисовки его попыток – в конечном счёте безуспешных – вступить в плодотворные для него отношения с представителями литературной и художественной интеллигенции, а также ответственными за эти области функционерами занимают значительную часть дневника. Беньямину не удалось осуществить своё намерение стать корреспондентом российских изданий по вопросам немецкой литературы и культурной жизни. Параллельно с этим в дневнике – это единственное место, где они даны в развёрнутом виде, – отражены его размышления о вступлении в КПГ, которые после всех pro и contra завершились отказом от этой идеи. Он точно осознал границы, переступать которые он не был готов.
Оптимистические ожидания, с которыми Беньямин прибыл в Москву, надеясь установить связи с московской литературной средой, и горькое разочарование, которым одарила его встреченная им реальность, образуют резкий контраст. Очень характерно для его первоначального оптимистического настроения письмо, которое он написал мне 10 декабря 1926 года, всего через четыре дня после приезда, – это вообще единственное письмо, написанное им мне из Москвы. Что стало с этими ожиданиями, мы узнаем теперь с мучительно детальными подробностями из повествования его дневника. Постепенно – но от этого результат был ничуть не менее удручающим – он расстался со всеми иллюзиями.
О том, как Беньямин оценивал свои московские впечатления, можно очень ясно судить по письму, которое он послал Мартину Буберу всего через три недели после возвращения (27 февраля 1927 года) и в котором он сообщает о скором завершении очерка «Москва», предназначенного для журнала «Die Kreatur», издававшегося Бубером. Как мне кажется, итог, подведённый Беньямином в этом письме, вполне заслуживает того, чтобы его процитировать. Он пишет: «Мои описания будут избегать всякой теории. Как я надеюсь, именно благодаря этому мне удастся заставить говорить саму реальность: насколько мне удалось освоить и запечатлеть этот новый, чуждый язык, приглушенный сурдиной совершенно изменённой среды. Я хочу изобразить этот город, Москву, в тот момент, когда “все фактическое уже стало теорией», и потому она недоступна какой бы то ни было дедуктивной абстракции, всякой прогностике, в какой-то мере вообще всякой оценке, которая, по моему глубочайшему убеждению, в данном случае не может следовать из каких-либо духовных “данных”, а лишь из экономических фактов, которыми в достаточной мере даже в России владеют лишь очень немногие. Москва, какой она предстаёт в этот момент, позволяет угадать в себе в схематическом, редуцированном виде все возможности: прежде всего возможность осуществления или крушения революции. Однако в обоих случаях возникнет нечто непредвиденное, образ которого будет сильно отличаться от всех проектов будущего, контуры этого образа проступают в наши дни в людях и их окружении резко и ясно».
Для того, кто читает дневник Беньямина в 1980 году, к этому добавляется более чёткое (в дневнике оно содержится лишь в эмбриональном виде) осознание того, что почти все люди, с которыми он вообще мог наладить хоть какие-то отношения, – между прочим, знал он это или Нет, но это были почти исключительно евреи – были представителями оппозиции, политической или художественной, это различение тогда еще в какой-то мере существовало. Насколько я мог проследить их судьбу, они раньше или позже стали жертвами формировавшегося уже в то время сталинского режима, обвинённые в троцкизме или прочих политических отклонениях. Даже его возлюбленная Ася Лацис в результате «чисток» была вынуждена провести несколько лет в лагерях. Не укрылся от Беньямина и все более явный – как следствие страха или цинизма – оппортунизм некоторых его важнейших собеседников, вызывавший у него резкую реакцию, даже по отношению к Асе Лацис.
В попытках Беньямина нащупать почву более значимым и продуктивным было не общение с возлюбленной, а и без того не лишённые драматизма отношения с весьма проницательным режиссёром Бернхардом Райхом (до того работавшим в театре «Дойчес театер» в Берлине), спутником жизни Аси Лацис (а в последние годы – и ее мужем), ведь у него, как подтверждает дневник, были связи, которыми Лацис не располагала. Но и в отношениях с Райхом уже в январе 1927 года возникла глубокая трещина, так что сохранять их удавалось с трудом.
Однако стержень дневника несомненно образуют чрезвычайно сложные отношения с Асей Лацис (1891–1979). Несколько лет назад она опубликовала книгу воспоминаний «Революционер по профессии», одна из глав которой посвящена Вальтеру Беньямину. Для читателей этой главы свидетельство дневника окажется неприятным и обескураживающим сюрпризом.
Беньямин познакомился с Асей Лацис в мае 1924 года на Капри. В присланных мне с Капри письмах он упоминал ее, не называя имени, как «латышскую большевичку из Риги», а в связи с «глубоким пониманием актуальности радикального коммунизма» как «русскую революционерку из Риги, одну из самых замечательных женщин, которую я когда-либо знал». Нет сомнений в том, что начиная с этого момента и по крайней мере до 1930 года она оказывала решающее влияние на его жизнь. Он был с ней в Берлине в 1924 году и в Риге – в 1925-м, может быть даже еще раз в Берлине, прежде чем совершил путешествие в Москву, предпринятое прежде всего из-за неё. После Доры Кельнер и Юлы Кон она была третьей женщиной, имевшей решающее значение для его жизни. Эротическая привязанность к ней сочеталась с сильным интеллектуальным влиянием, которое она, судя по посвящению к книге «Улица с односторонним движением» («Эта улица называется улицей Аси Лацис по имени инженера, пробившего ее в авторе»), на него оказывала. Однако по поводу этой интеллектуальной стороны любимой им женщины дневник оставляет нас в полном неведении. Будучи почти до самого конца историей неудачного домогательства, дневник представляет собой прямо-таки отчаянно-пронзительный документ. Ася больна и лежит, когда он приезжает и почти до самого его отъезда, в санатории, но мы ничего не узнаем о природе ее болезни. Так что вместе они бывают главным образом в санаторной палате, лишь несколько раз она приходит к нему в гостиницу. У ее дочери от первого брака – ей было, насколько я понимаю, восемь или девять лет – тоже нелады со здоровьем, и она находится в детском санатории под Москвой. Таким образом, Ася Лацис не принимает активного участия в его действиях. Она только выслушивает его сообщения, почти всегда отвергает его домогательства и, наконец, – и не так уж редко – оказывается оппонентом в резких, даже отчаянных ссорах. Тщетное ожидание, постоянные отказы, в конце концов даже немалая доля эротического цинизма – все это занесено в хронику с точностью отчаявшегося человека, и отсутствие какого-либо определенного интеллектуального облика из-за этого становится вдвойне загадочным.
К тому же все люди, видевшие Беньямина и Асю Лацис вместе и рассказывавшие мне об этом, как один выражали своё изумление по поводу этой пары, которая только тем и занималась, что ссорилась. И это в 1929 и 1930 годах, когда она приехала в Берлин и Франкфурт и Беньямин из-за неё развёлся! Здесь остаётся какая-то загадка, которая в жизни такого человека, как Вальтер Беньямин, вполне уместна.
Гершом Шолем. Иерусалим, 1 февраля 1980
9 декабря.
Приехал я 6 декабря. В поезде, на случай если меня никто не встретит на вокзале, я заучил название гостиницы и адрес. (На границе меня заставили доплатить за первый класс, заявив, что во втором классе мест нет.) Меня вполне устраивало, что никто не видел, как я выхожу из спального вагона. Но и у турникета никого не было. Это не слишком меня взволновало. И вот уже на выходе из Белорусско-Балтийского вокзала меня встречает Райх. Поезд не опоздал ни на секунду. Вместе с обоими чемоданами мы погрузились в сани. В этот день наступила оттепель, было тепло. Мы всего несколько минут проехали по широкой, блестящей от снега и грязи Тверской, как увидели машущую Асю. Райх вылез из саней и пошёл до гостиницы4, что была в двух шагах, пешком, а мы поехали. Ася выглядела некрасиво, диковато в русской меховой шапке, лицо от долгого лежания несколько расплылось. В гостинице мы не задержались и пошли выпить чаю в одной из так называемых кондитерских вблизи санатория. Я рассказал о Брехте. Потом Ася, сбежавшая в тихий час, вернулась в санаторий, чтобы никто не заметил, по боковой лестнице, Райх и я – по главной лестнице. Вторая встреча с обычаем снимать калоши. Первая – в гостинице, где, впрочем, только приняли чемоданы; комната была обещана нам лишь вечером. Соседку Аси по комнате, коренастую текстильщицу, я увидел лишь на следующий день, ее еще не было. Здесь мы впервые оказались на несколько минут одни в помещении. Ася очень дружелюбно смотрела на меня. Намёк на решающий разговор в Риге. Потом Райх проводил меня в гостиницу, мы немного поели в моей комнате, а потом пошли в театр Мейерхольда. Была первая генеральная репетиция «Ревизора». Достать для меня билет, несмотря на попытку Аси, не удалось. Тогда я прошёлся полчаса туда-сюда по Тверской, осторожно пытаясь разбирать по буквам вывески и ступать по льду. Потом я вернулся очень усталый (и, вероятно, печальный) в свой номер.
7-го утром за мной зашёл Райх. Маршрут: Петровка (регистрация в полиции), институт Каменевой (по поводу места за полтора рубля для учёных; кроме того, разговор с тамошним референтом по Германии, большим ослом), потом по улице Герцена [2] к Кремлю, мимо совсем неудачного мавзолея Ленина до того места, где открывается вид на Исаакиевский собор. Обратно по Тверской и Тверскому бульвару в дом Герцена в, резиденцию пролетарской писательской организации ВАПП. Хорошая еда, насладиться которой мне не дало напряжение, которого мне стоила ходьба по холоду. Коган, которого мне представили, прочёл мне лекцию о своей румынской грамматике и своём русско-румынском словаре. Рассказы Райха, которые я во время долгих походов от усталости могу слушать лишь в пол-уха, необычайно живы, полны убедительных фактов и анекдотов, остроумны и симпатичны. Истории о налоговом инспекторе, который берет на пасху отпуск и служит в своей деревне священником. Еще: приговоры по делам портнихи, убившей своего мужа-алкоголика, и хулигана, напавшего на улице на студента и студентку. Еще: история о белогвардейской пьесе у Станиславского, как она попадает в цензуру и только один чиновник что-то замечает и возвращает с пометкой, что нужно сделать изменения. Спустя месяцы, с учётом сделанных замечаний, официальное представление пьесы. Запрет. Станиславский к Сталину: театру, мол, конец, все вложено в постановку. Сталин решает, что «она не опасна». Премьера при сопротивлении коммунистов, которых удаляют с помощью милиции. История о повести, в которой намекается на происшествие с Фрунзе, который, как говорят, был прооперирован против своей воли и по приказу Сталина… далее политическая информация: снятие оппозиционных деятелей с руководящих постов.
Того же плана: вытеснение евреев, главным образом из среднего звена управления. Антисемитизм на Украине. – После ВАППа, совершенно обессиленный, сначала один к Асе. Там скоро становится тесно. Приходит латышка, садящаяся рядом с ней на кровать, Шестаков со своей женой; между этими двоими, с одной стороны, и Асей и Райхом, с другой, возникает – по-русски – ожесточеннейшая дискуссия о постановке «Ревизора» Мейерхольдом. В центре дискуссии – затраты на бархат и шёлк, пятнадцать костюмов его жены; между прочим, постановка идёт 5 с половиной часов. После еды Ася приходит ко мне; Райх тоже у меня. Перед уходом Ася рассказывает историю о своей болезни. Райх отводит ее в санаторий и потом возвращается. Я лежу в постели – он хочет работать. Но очень скоро он делает перерыв, и мы беседуем о положении интеллигенции – здесь и в Германии; а также о технике принятой в настоящее время в обеих странах литературной деятельности. И еще о сомнениях Райха по поводу вступления в партию. Его постоянная тема – реакционный поворот партии в делах культуры. Левые движения, которые использовали во время военного коммунизма, оставлены совершенно без внимания. Лишь совсем недавно пролетарские писатели (вопреки Троцкому) как таковые признаны государством, но при этом им одновременно дали понять, что они ни в коем случае не могут рассчитывать на государственную поддержку. Потом история Лелевича – действия против левого культурного фронта. Лелевич написал работу о методике марксистской литературной критики. – Величайшее внимание в России обращается на чётко – до мельчайших нюансов – определенную политическую позицию. В Германии достаточно лишь в общих чертах обозначить политическую ориентацию, хотя и там без этого не обойтись. – Методика писать для России: побольше материала и по возможности ничего больше. Уровень образования публики настолько низок, что тонкости формулировок останутся непонятыми. В Германии же, напротив, требуют одного: результатов. Как они получены, никого не интересует. С этим связано и то, что немецкие газеты предоставляют пишущему лишь крошечный объем; здесь же статьи от 500 до 600 строк не редкость. Этот разговор продолжался долго. Моя комната хорошо протоплена и просторна, находиться в ней приятно.
8 декабря. С утра ко мне зашла Ася. Я дал ей подарки, дал ей мельком взглянуть на мою книгу с посвящением. Ночью она из-за сердцебиения спала плохо. Суперобложку книги, сделанную Стоуном, я тоже показал (и подарил) ей. Она ей очень понравилась. После пришёл Райх. Дальше я пошёл с ним в государственный банк менять деньги. Мы немного поговорили там с отцом Неймана, 10 декабря. Потом через заново отстроенный пассаж на Петровке. В пассаже выставка фарфорового завода.
Но Райх нигде не останавливается. На улице, где находится гостиница «Ливерпуль», я во второй раз вижу кондитерские. (Здесь я с опозданием записываю историю визита в Москву Толлера, которую я слышал в первый день. Он был принят с невероятной пышностью. Плакаты по всему городу возвещали о его прибытии. Ему дают целый штат сопровождающих: переводчицы, секретарши, привлекательные женщины. Объявлены его выступления. Однако в эти дни в Москве проходит заседание Коминтерна. Среди немецких делегатов – Вернер, смертельный враг Толлера. Он сочиняет или инспирирует для «Правды» статью: Толлер, сообщается в ней, предал революцию, виновен в поражении советской республики в Германии. «Правда» даёт к этому краткое редакционное примечание: извиняемся, мы этого не знали. Толлер становится в Москве нежелательной фигурой. Он отправляется, чтобы выступить с широко объявленным докладом – здание закрыто. Институт Каменевой сообщает ему: просим прощения, но зал сегодня не мог быть использован. Вам забыли позвонить.) Днём снова в ВАППе. Бутылка минеральной воды стоит i рубль. Затем Райх и я идём к Асе. Чтобы дать ей отдохнуть, Райх организует, вопреки ее желанию, и моему тоже, в санаторной комнате отдыха партию в домино между ней и мной. Сидя рядом с ней, я кажусь самому себе персонажем из романа Якобсена. Райх играет в шахматы со знаменитым старым коммунистом, потерявшим на мировой или гражданской войне глаз и совершенно подорвавшим своё здоровье, как многие лучшие коммунисты этого времени, если они вообще еще живы. Только мы с Асей вернулись в ее комнату, как появляется Райх, чтобы вести меня к Грановскому. Какое-то время Ася идёт с нами по Тверской. В кондитерской я покупаю ей халву, и она идёт к себе. Грановский – еврей из Риги. Он создал подчёркнуто антирелигиозный и по внешним проявлениям в какой-то степени антисемитский фарсовый театр, являющийся по своим истокам карикатурным воспроизведением оперетты на идише. Он выглядит совершенно по-европейски, относится несколько скептически к большевизму, и разговор вертится главным образом вокруг театра и финансовых вопросов. Речь заходит о квартирах. Их оплачивают по кв. метрам. Цена квадратного метра определяется в зависимости от зарплаты квартиросъёмщика. Кроме того, все, что превосходит 13 кв. м на человека, оплачивается в тройном размере, как квартплата, так и плата за отопление. Нас уже не ждали, и вместо солидной еды был импровизированный холодный ужин. У меня в гостинице разговор с Райхом об энциклопедии.
9 декабря. С утра снова пришла Ася. Я дал ей кое-что, и мы скоро пошли гулять. Ася говорила обо мне. У «Ливерпуля» мы повернули.
Я пошёл домой, где уже был Райх. Час мы работали, каждый занимаясь своим – я редактированием статьи о Гёте. Потом в институт Каменевой, чтобы получить для меня скидку в гостинице. После этого обед. На этот раз не в ВЛППе. Еда была превосходной, особенно суп из свёклы. После в «Ливерпуль» с его симпатичным хозяином, латышом. Было около 12 градусов. После обеда я порядком устал и не смог отправиться к Лелевичу пешком, как собирался. Небольшое расстояние пришлось проехать. Потом быстро через большой сад или парк, в котором разбросаны дома. Совсем в глубине красивый черно-белый деревянный дом с квартирой Лелевича на втором этаже. У входа в дом мы встречаем Безыменского, который как раз уходит. Крутая деревянная лестница, а за дверью сначала кухня с открытым очагом. Потом примитивная прихожая, забитая пальто, потом через жилую комнату, похоже с альковами, в кабинет Лелевича. Вид его с трудом поддаётся описанию. Довольно высокий, в синей русской блузе, он почти недвижим (само маленькое помещение, заполненное людьми, заставляет его сидеть на стуле у письменного стола). Примечательно его длинное, словно смазанное лицо с плоскими щеками. Подбородок такой длинный, какой я видел только у одного человека, больного Громмера, и мало выдающийся вперёд. Внешне он очень спокоен, но в нем чувствуется вся напряженная молчаливая сосредоточенность фанатика. Он несколько раз спрашивает Райха обо мне. Напротив на кровати сидят два человека, один, в черной блузе, очень молод и красив. Здесь собрались лишь представители литературной оппозиции, чтобы провести с ним последние часы перед его отъездом. Его высылают. Сначала было предписано ехать в Новосибирск. «Вам нужен, – сказали ему, – не просто город, чьи масштабы все же ограничены, а целая область». Но ему удалось избежать этого, и теперь его посылают «в распоряжение партии» в Саратов, город в сутках езды от Москвы, при этом он даже еще не знает, будет он там редактором, продавцом производственного кооператива или кем-нибудь еще. В соседней комнате почти все время среди других гостей находится его жена, существо чрезвычайно энергичное, но наделённое не менее гармоничной внешностью, невысокая, южнорусского склада. Она будет сопровождать его первые три дня. Лелевич наделён оптимизмом фанатика: он жалуется, что не сможет услышать речь, которую на следующий день будет произносить в Коминтерне в поддержку Зиновьева Троцкий, полагая, что партия находится накануне перелома. Прощаясь в прихожей, я прошу Райха сказать ему от меня несколько приветливых слов. После мы идём к Асе. Может быть, партия в домино была в действительности в этот раз. Вечером Ася и Райх хотели прийти ко мне. Но пришла только Ася.
Я дал ей подарки: блузку, брюки. Мы разговариваем. Я замечаю, что она, в сущности, ничего не забывает, что касается нас с ней. (После обеда она сказала, что ей кажется, что у меня все хорошо. Она не верит, что я в кризисе.) Прежде чем она уходит, я читаю ей из «Улицы с односторонним движением» место о морщинках. Потом я помогаю ей надеть калоши. Райх пришёл, когда я уже спал, около полуночи, чтобы сообщить мне новость, которая должна была успокоить Асю. Он подготовился к переезду. Дело в том, что он живёт с сумасшедшим, и жилищные условия, и без того тяжёлые, становятся от этого невыносимыми.
10 декабря. Утром мы идём к Асе. Поскольку сутра визиты не разрешены, мы разговариваем с ней минутку в вестибюле. Она после углекислой ванны, которую она принимала в первый раз и которая очень хорошо на неё подействовала. После этого снова в институт Каменевой. Справка, по которой делают скидку в гостинице, все еще не готова, вопреки обещаниям. Вместо этого в уже знакомом мне секретариате достаточно продолжительная беседа о театральных проблемах с бездельничающим господином и секретаршей. На следующий день меня должна принять Каменева, а на вечер мне пытаются достать билеты в театр.
К сожалению, билетов в оперетту нет. Райх оставляет меня в ВАППе, я провожу там два с половиной часа со своей русской грамматикой; потом он снова появляется, вместе с Коганом, чтобы пообедать. После обеда я совсем недолго навещаю Асю.
У них с Райхом спор по поводу квартирных дел, и она выставляет меня. Я читаю в своей комнате Пруста, поглощая при этом марципан. Вечером я иду в санаторий, встречаю в дверях Райха, который выходил, чтобы купить сигарет. Мы несколько минут ждём в коридоре, потом появляется Ася. Райх сажает нас в трамвай, и мы едем в музыкальную студию. Нас принимает администратор. Он предъявляет нам написанный по-французски похвальный отзыв Казеллы, проводит нас по всем помещениям (в вестибюле много публики задолго до начала, это люди, пришедшие в театр прямо с работы), показывает нам и зал. Пол вестибюля покрыт чрезвычайно ярким, не слишком красивым ковром. Должно быть, дорогой обюссон. На стенах висят подлинные старые картины (одна из них без рамы). Здесь, как, впрочем, и в официальной приёмной института по культурным связям с заграницей, есть и очень ценная мебель. Наши места во втором ряду. Играют «Царскую невесту» Римского-Корсакова – первую оперу, недавно поставленную Станиславским. Разговор о Толлере, Ася рассказывает, как она сопровождала его, и он хотел ей что-нибудь подарить и выискал самый дешёвый пояс, какие глупые замечания он делал. В антракте мы идём в вестибюль. Но их три. Они слишком длинные, и Ася устаёт. Разговор об охристо-жёлтой шали, которую она носит. Я заявляю ей, что она стесняется меня. В последнем антракте к нам подходит администратор. Ася разговаривает с ним. Он приглашает меня на следующую новую постановку («Евгений Онегин»).
В конце оказывается сложным получить вещи в гардеробе. Два служителя перекрывают лестницу, чтобы регулировать приток публики в крошечный гардероб. Домой, как и в театр, – в маленьком, неотапливаемом трамвае с заиндевевшими окнами.
11 декабря. Кое-что об облике Москвы. В первые дни я почти полностью поглощён трудностями привыкания к ходьбе по совершенно обледеневшим улицам. Мне приходится так пристально смотреть под ноги, что я мало могу смотреть по сторонам. Дело пошло лучше, когда Ася вчера к вечеру (я пишу это 12-го) купила мне калоши. Это оказалось не так сложно, как предполагал Райх. Для архитектурного облика города характерно множество двух-и трёхэтажных домов. Они придают ему вид района летних вилл, при взгляде на них холод ощущается вдвойне. Часто встречается разнообразная окраска неярких тонов: чаще всего красная, а также голубая, жёлтая и (как говорит Райх) также зелёная. Тротуар поразительно узок, к земной поверхности здесь относятся столь же скупо, сколь расточительно к воздушному пространству. К тому же лёд у стен домов лежит так плотно, что часть тротуара не пригодна для ходьбы. Между прочим, отличить его от проезжей части улицы чаще всего трудновато: снег и лёд нивелируют разные уровни улицы. Перед государственными магазинами часто встречаются очереди; за маслом и другими важными товарами приходится стоять. Здесь бесчисленное количество магазинов и еще больше торговцев, у которых, кроме корзины с яблоками, мандаринами или земляными орехами, ничего нет. Чтобы защитить товар от мороза, его накрывают шерстяным платком, поверх которого на пробу лежат две-три штуки. Изобилие хлеба и другой выпечки: булочки всех размеров, кренделя и, в кондитерских, очень пышные торты. Из жжёного сахара возводят фантастические сооружения и цветы. Вчера после обеда я был с Асей в одной кондитерской. Там подают взбитые сливки в стеклянных чашах. Она взяла безе, я – кофе. Мы сидели в середине за маленьким столиком, друг напротив друга. Ася напомнила мне о моем намерении написать критику психологии, и я вновь не мог не заметить, насколько моя способность писать на такие темы зависит от контакта с ней. Вообще нам не удалось провести время в кафе так долго, как мы надеялись.
Я ушёл из санатория не в четыре, а лишь в пять. Райх хотел, чтобы мы его подождали, он не был уверен, будет ли у него заседание. Наконец мы пошли. На Петровке мы рассматривали витрины.
Я обратил внимание на шикарный магазин деревянных изделий. Ася купила мне в нём по моей просьбе совсем маленькую трубку. Я хочу потом купить там игрушки для Штефана и Даги. Там есть русские деревянные яйца, вкладывающиеся одно в другое, точно так же складывающиеся шкатулочки, резные звери из прекрасного мягкого дерева. В другой витрине были русские кружева и вязаные платки, о которых Ася сказала, что русские крестьянки повторяют в них ледяные узоры на окнах. В тот день это была уже вторая наша прогулка. С утра Ася пришла ко мне, сначала писала Даге, а потом мы прогулялись по Тверской, была очень хорошая погода. Поворачивая назад, мы остановились перед магазином, в котором продавали рождественские свечи. Ася заговорила о них. Потом с Райхом снова в институте Каменевой. Наконец я получаю свою скидку в гостинице. Вечером они хотели отправить меня на «Цемент». Райх считал, что лучше пойти на спектакль к Грановскому, потому что Ася хотела пойти в театр, а «Цемент» был бы для неё слишком напряженной вещью. Однако, когда подошло время, Ася почувствовала себя не очень хорошо, так что я пошёл один, а Райх и она отправились в мой номер. Было три одноактных спектакля, из них два первых были ниже всякой критики, третий, собрание раввинов, что-то вроде музыкальной комедии на еврейские мелодии, производил гораздо лучшее впечатление, однако я не понимал сюжета и был так утомлён тем, что случилось за день, и бесконечными антрактами, что временами засыпал. – Райх спал в эту ночь в моем номере. – Мои волосы здесь очень наэлектризованы.
12 декабря. Утром Райх с Асей пошли гулять. Потом они зашли ко мне – я был еще не совсем одет. Ася сидела на кровати. Меня очень порадовало, как она разбирала и приводила в порядок мои чемоданы; при этом она взяла себе пару галстуков, которые ей понравились. Потом она рассказала, как она глотала бульварные романы, когда была маленькой. Она прятала маленькие брошюрки среди школьных учебников, однако однажды ей досталась большая книга «Лаура», все выпуски в одном переплёте, и она попала в руки ее матери. В другой раз она ночью убежала из дому, чтобы получить у подруги продолжение какой-то из этих историй. Отец подруги открыл ей в полном замешательстве – он спросил, что ей нужно, и так как она лишь в этот момент поняла, что натворила, она смогла только ответить, что сама этого не знает. – Днём с Райхом в маленьком подвальном ресторане. Послеобеденный визит в унылый санаторий был мучительным. Ася снова постоянно переходила то на «ты», то на «вы». Потом прогулка по Тверской. При этом позднее, когда мы сидели в кафе, между Райхом и Асей возникла крупная ссора, из которой можно было ясно понять, что Райх надеялся полностью сосредоточиться на русских делах, забросив из-за этого немецкие связи. Вечером одни с Райхом в моем номере: я изучал путеводитель, а он работал над статьёй о «Ревизоре». – В Москве нет грузовиков, нет фирм, занимающихся доставкой etc. Самые маленькие покупки, как и самые большие вещи, приходится перевозить на крошечных санях с извозчиком.
13 декабря. В первой половине дня я, чтобы лучше познакомиться с городом, предпринял большую прогулку по внутреннему бульварному кольцу к главному почтамту и обратно через Лубянскую площадь к дому Герцена. Я разрешил загадку человека с алфавитной доской: он торговал буквами, которыми помечали калоши, чтобы не спутать. Я снова обратил внимание на то, что многие магазины украшены ёлочными игрушками, так же как и за час до того, во время короткой прогулки с Асей, когда они постоянно попадались мне на Ямской Тверской. За витринным стеклом они порой выглядят еще более яркими, чем на дереве.
Во время этой прогулки по Ямской Тверской мы встретили группу комсомольцев, маршировавших под музыку. Эта музыка, так же как и музыка советской армии, производит впечатление соединения свиста и пения. Ася говорила о Райхе. Она поручила мне принести ему последний номер «Правды». Во второй половине дня Райх читал нам у Аси свой отзыв на прогон постановки «Ревизора» Мейерхольдом. Он очень хорош. До того, пока он спал в Асиной комнате на стуле, я прочёл ей кое-что из «Улицы с односторонним движением».
Во время моей большой прогулки в первой половине дня я заметил еще кое-что: торговки, крестьянки, ставят свою корзину с товаром перед собой (иногда и санки, вроде тех, на которых здесь зимой возят детей, вместо колясок). В этих корзинах лежат яблоки, конфеты, орехи, сахарные фигурки, наполовину скрытые платком. Можно подумать, что заботливая бабушка, перед тем как выйти из дому, собрала все, чем она может порадовать внуков. Все это она уложила в корзину, а теперь остановилась передохнуть по пути. Я снова встретил китайцев, продающих бумажные цветы, такие же, как и те, что я привёз Штефану из Марселя. Но здесь, похоже, еще чаще встречаются бумажные животные, по форме напоминающие экзотических глубоководных рыб. Потом еще есть люди, чьи корзины полны деревянными игрушками, тележками и лопатками, тележки жёлто-красные, лопатки жёлтые или красные. Другие расхаживают со связками разноцветных флажков за плечами. Все игрушки сработаны проще и добротнее, чем в Германии, их крестьянское происхождение совершенно очевидно. На одном углу я обнаружил женщину, продающую ёлочные украшения. Стеклянные шары, жёлтые и красные, сверкали на солнце, словно это была волшебная корзина с яблоками, в которой одни яблоки были жёлтыми, другие красными. Здесь, как и в других местах, ощущается и непосредственная связь дерева и цвета. Это видно по простейшим игрушкам так же хорошо, как и по изящной лаковой росписи. – У стены Китай-города стоят монголы. Возможно, зима на их родине не менее сурова, а их обтрёпанные шубы не хуже, чем у местных жителей. Однако это единственные люди, которые вызывают здесь сочувствие из-за климата. Они стоят на расстоянии не более пяти шагов друг от друга и торгуют кожаными папками; каждый точно такими же, как и другие. За этим, должно быть, скрывается какая-то организация, ведь не могут же они всерьёз так безнадёжно конкурировать друг с другом. Здесь, как и в Риге, существует прелестная примитивная живопись на вывесках. Ботинки, выпадающие из корзины, с одной из сандалий в зубах убегает шпиц. Перед турецким рестораном две вывески, как диптих, на которых изображены господа в фесках с полумесяцем за накрытым столом. Ася права, когда отмечает как примечательную черту, что народ везде, в том числе и в рекламе, хочет видеть изображение какого-нибудь реального события. – Вечером с Райхом у Иллеша. Позднее пришёл директор Театра революции, в котором 30 декабря должна состояться премьера пьесы Иллеша. Этот директор – бывший красный генерал, который внёс решающий вклад в разгром Врангеля и был дважды упомянут в приказе Троцкого по армии. Позднее он совершил какую-то политическую глупость, которая остановила его карьеру, а поскольку он когда-то был литератором, его направили на этот руководящий пост в театре, где ему, правда, почти нечего делать. Похоже, он довольно глуп. Разговор был не слишком оживлённым. К тому же я, по совету Иллеша, был осторожен в речах. Говорили об эстетике Плеханова. В комнате совсем мало мебели, больше всего бросаются в глаза старая детская кровать и ванна. Когда мы пришли, мальчик еще не спал, потом его с криками отправляют в постель, однако он не спит, пока мы не уходим.
14 декабря (записано 15-го). Сегодня я Асю не увижу. Ситуация в санатории обостряется; вчера ей разрешили выйти лишь после долгих переговоров, а сегодня утром она не зашла за мной, как мы договорились.
Мы собирались купить ткань ей на платье. Я здесь всего неделю, и уже приходится сталкиваться с большими трудностями, для того чтобы ее увидеть, не говоря уже о том, чтобы увидеть наедине. – Вчера до обеда она пришла торопливая, возбуждённая, еще больше приводящая в замешательство, чем испытывающая замешательство сама, словно она боялась провести в моей комнате даже минуту. Я проводил ее до здания комиссии, в которую она была вызвана. Сказал ей о том, что узнал накануне вечером: что Райх рассчитывает получить место театрального критика в одном чрезвычайно влиятельном журнале. Мы шли по Садовой. Я в общем говорил очень мало, она рассказывала, очень возбуждённо, о своей работе с детьми на детской площадке. Во второй раз я услышал историю, как на ее детской площадке один ребёнок пробил другому голову. Странным образом я понял эту совсем простую историю (которая могла бы иметь неприятные последствия для Аси, однако врачи посчитали, что ребёнок будет спасён) только сейчас. Это происходит со мной довольно часто: я едва слышу, что она говорит, потому что так пристально на неё смотрю. Она развивала свою мысль, как следует делить детей на группы, потому что никогда не удастся самых отчаянных – которых она называет самыми способными – занимать чем-нибудь вместе с остальными. Они скучают от занятий, полностью поглощающих нормальных детей. И вполне понятно, что Ася, по ее утверждению, добивается наибольших успехов с самыми отчаянными. Кроме того, Ася говорила о своей литературной работе, о трёх статьях в латышской коммунистической газете, выходящей в Москве: это издание нелегально доставляется в Ригу, и для неё очень полезно, что ее там читают. Дом комиссии стоял на месте пересечения Страстного бульвара с Петровкой. Больше получаса я в ожидании ходил туда-сюда по этой улице. Когда она наконец вышла, мы пошли в Государственный банк, чтобы я поменял деньги. В это утро я был полон сил, и потому мне удалось говорить о своём визите в Москву и связанных с ним ничтожно малых шансах связно и спокойно. Это произвело на неё впечатление. Она рассказала, что врач, который ее лечил и спас, категорически запретил ей оставаться в городе и предписал лесной санаторий. Однако она осталась, испугавшись печального одиночества, которое означало пребывание в лесу, а также из-за моего приезда. Мы остановились перед меховым магазином, где Ася останавливалась уже во время нашей первой прогулки по Петровке. В нем на стене висел восхитительный меховой костюм, расшитый бисером. Чтобы спросить, сколько он стоит, мы вошли и узнали, что это тунгусская работа (а не «эскимосский костюм», как предполагала Ася). Оказалось, что он стоит двести пятьдесят рублей. Ася хотела его заполучить. Я сказал: «Если я его куплю, мне придётся тотчас же уехать».
Но она заставила меня пообещать, что я сделаю ей потом большой подарок, который она сохранила бы на всю жизнь. К Госбанку с Петровки нужно идти через пассаж, в котором находится большой комиссионный антикварный магазин. В витрине стоял редкий по великолепию шкаф в стиле ампир с инкрустацией. Дальше, ближе к концу, у деревянных стеллажей запаковывали и разбирали фарфор. Было несколько очень хороших минут, пока мы шли обратно к автобусной остановке. Потом моя аудиенция у Каменевой. После обеда я блуждаю по городу: к Асе я не могу, у неё Кнорин, очень важный латышский коммунист, член верховного цензурного совета. (То же самое и сегодня; пока я пишу это, у неё Райх, один.) К вечеру я оказываюсь во французском кафе в Столешниковом, за чашкой кофе. – О городе: похоже, что византийские церкви не выработали собственной формы окна. Завораживающее впечатление, малопривычное: мирские, невзрачные окна колоколен и главного придела церквей византийского стиля выходят на улицу, словно это жилые дома. Здесь живёт православный священник, словно бонза в своей пагоде. Нижняя часть храма Василия Блаженного могла бы быть первым этажом великолепного боярского дома. А кресты на куполах часто выглядят как огромные серьги, вознесённые к небу. – Роскошь, осевшая в обедневшем, страдающем городе словно зубной камень в больном рту: магазин шоколадных изделий Н. Крафта, магазин изысканной моды на Петровке, в котором большие фарфоровые вазы холодно, отвратительно торчат среди мехов. – Нищенство не агрессивно, как на юге, где назойливость оборванцев все еще выдаёт остатки жизненной силы. Здесь оно – корпорация умирающих. Углы улиц, по крайней мере в тех кварталах, где бывают по делам иностранцы, обложены грудами тряпья, словно койки в огромном лазарете по имени Москва, раскинувшемся под открытым небом. По-другому организовано нищенство в трамваях. На определенных линиях случаются более долгие остановки. Тогда в вагон просачиваются нищие или в угол вагона встаёт ребёнок и начинает петь. После он собирает копейки. Очень редко можно увидеть подающего. Нищенство потеряло своё наиболее мощное основание – дурную социальную совесть, открывающую кошельки гораздо шире, чем сочувствие. – Пассажи. В них есть, как нигде в другом месте, разные этажи, галереи, на которых так же пустынно, как и на хорах в соборах. – В сравнении с огромной войлочной обувью, в которой расхаживают крестьяне и зажиточные дамы, тесно облегающие сапожки кажутся интимной частью туалета, наделённой всеми мучительными свойствами корсета. Валенки – роскошество для ног. Еще о церквах: по большей части они стоят неухоженными, такими же пустыми и холодными, как собор Василия Блаженного, когда я побывал внутри него. Но жар, отсвет которого алтари еще кое-где отбрасывают на снег, вполне сохранился в деревянных городках рыночных ларьков. В их заваленных снегом узких проходах тихо, слышно только, как тихо переговариваются на идише еврейские торговцы одеждой, чей прилавок находится рядом с развалом торговки бумажными изделиями, восседающей за серебряным занавесом, закрыв лицо мишурой и ватными Дедами Морозами, словно восточная женщина – чадрой. Самые красивые ларьки я видел на Арбатской площади. – Несколько дней назад я разговаривал в своём номере с Райхом о журналистике. Киш открыл ему некоторые золотые правила, к которым я добавил еще кое-что. 1) В статье должно быть как можно больше имён, 2) Первая и последняя фраза должны быть хорошими; то, что в середине, не имеет значения. 3) Картины, которые вызывает в воображении имя, использовать как фон для изображения действительной вещи, называемой этим именем. Я хотел бы написать здесь с Райхом программу материалистической энциклопедии, для которой у него есть отличные идеи. – После семи пришла Ася. (Но Райх пошёл с нами в театр.) У Станиславского шли «Дни Турбиных». Выполненные в натуралистическом духе декорации необычайно хороши, игра без особых изъянов или достоинств, пьеса Булгакова – совершеннейшая подрывная провокация. В особенности последний акт, в котором происходит «обращение» белогвардейцев в большевиков, столь же безвкусен с точки зрения драматического действия, сколь и лжив по идее. Сопротивление, оказанное постановке коммунистами, обоснованно и понятно. Был ли этот последний акт добавлен по требованию цензуры, как предполагает Райх, или существовал с самого начала, не имеет значения для оценки пьесы. (Публика совершенно отчётливо отличается от публики, которую я видел в двух других театрах. Там практически не было коммунистов, совершенно не видно было черных или синих блуз.) Места не были рядом, и я сидел вместе с Асей только во время первой сцены. Потом ко мне подсел Райх; он посчитал, что перевод слишком утомляет ее.
15 декабря. Встав утром, Райх вышел, и я понадеялся, что встречусь с Асей наедине. Но она вообще не пришла. Позднее Райх выяснил, что утром ей было плохо. Но и после обеда он не пустил меня к ней. До обеда мы какое-то время пробыли вместе; он переводил мне речь, с которой Каменев выступил на Коминтерне. – Место по-настоящему знаешь только тогда, когда пройдёшь его в как можно большем количестве направлений. На какую-нибудь площадь нужно вступить со всех четырёх сторон света, чтобы она стала твоей, да и покинуть ее во все стороны тоже. Иначе она три, четыре раза перебежит вам дорогу, когда вы совсем не ожидаете встречи с ней. На следующей стадии вы уже отыскиваете ее, используете как ориентир. То же и с домами. Что в них скрывается, узнаешь только тогда, когда разыщешь среди других какой-либо определенный. Из подворотен, у дверных косяков на тебя выскакивает полная молчаливого ожесточения и борьбы жизнь, то разными по величине черными, синими, жёлтыми и красными буквами, то стрелкой-указателем, то изображением сапог или свежевыглаженного белья, то вытоптанной ступенькой или солидным крыльцом. Нужно также проехать по улицам на трамвае, чтобы увидеть, как эта борьба карабкается вверх по этажам, чтобы в конце концов достичь решающей стадии на крышах. Туда выбиваются лишь мощнейшие старые лозунги или названия фирм, и увидеть индустриальную элиту города (несколько имён) можно лишь с самолёта. – В первой половине дня в соборе Василия Блаженного. Его наружные стены лучатся тёплыми домашними красками над снегом. На соразмерном основании вознеслось здание, симметрию которого не увидишь ни с какой стороны. Он все время что-то скрывает, и застать врасплох это строение можно было бы только взглядом с самолёта, против которого его строители не подумали обезопаситься. Помещения не просто освободили, но выпотрошили, словно охотничью добычу, предложив народному образованию как «музей». После удаления внутреннего убранства, с художественной точки зрения – если судить по оставшимся барочным алтарям – по большей части, вероятно, ценности не представляющего, пёстрый растительный орнамент, буйно покрывающий стены всех галерей и залов, оказался безнадёжно обнажённым; к сожалению, он исказил, превратив в игру в стиле рококо, явно более раннюю роспись, которая сдержанно хранила во внутренних помещениях память о разноцветных спиралях куполов. Сводчатые галереи узки, неожиданно расширяясь алтарными нишами или круглыми часовнями, в которые сверху через высоко расположенные окна проникает так мало света, что отдельные предметы церковной утвари, оставленные здесь, с трудом можно разглядеть. Однако есть одна светлая комнатка, пол которой покрывает красная ковровая дорожка. В ней выставлены иконы московской и новгородской школы, а также несколько, должно быть бесценных, евангелий, настенные ковры, на которых Адам и Христос изображены обнажёнными, однако без половых органов, почти белые на зелёном фоне.
Здесь дежурит толстая женщина, по виду крестьянка: хотел бы я слышать те пояснения, которые она давала нескольким пришедшим пролетариям. – До того короткий проход через пассажи, называющиеся «верхние торговые ряды». Я безуспешно пытался купить из витрины одного магазина игрушек очень интересные фигурки, глиняных, ярко раскрашенных всадников. На обед – на трамвае вдоль реки Москвы, мимо храма Христа Спасителя, через Арбатскую площадь. После обеда еще раз, в темноте, обратно на площадь, гулял среди рядов деревянных рыночных ларьков, потом по улице Фрунзе мимо Министерства обороны, имеющего элегантный вид, пока не заблудился. Домой на трамвае. (К Асе Райх хотел пойти один.) Вечером по совсем свежему гололёду к Панскому. В дверях его дома он сталкивается с нами, направляясь со своей женой в театр. По недоразумению, выяснившемуся только на следующий день, он просит зайти к нему на днях на работу. После этого в большой дом на Страстной площади, чтобы увидеть одного знакомого Райха.
В лифте мы встречаем его жену, которая говорит нам, что ее муж на собрании. Но так как в том же доме, своего рода огромном boarding house, живёт мать Софии, мы решаем зайти туда. Как все комнаты, которые я видел до сих пор (у Грановского, у Иллеша), в ней мало мебели. Безрадостная мещанская обстановка оказывается еще более удручающей, поскольку комната убого обставлена. Но мещанскую обстановку отличает завершённость: стены должны покрывать картины, подушки – софу, покрывала – подушки, безделушки – полочки, цветные стекла – окна. Из всего этого случайно сохранилось только одно или другое. В этих помещениях, выглядящих словно лазарет после недавней инспекции, люди могут вынести жизнь, потому что помещения отчуждены от них их образом жизни. Они проводят время на работе, в клубе, на улице. Первый шаг в этой комнате позволяет опознать удивительную ограниченность в решительной натуре Софии как приданое этой семьи, от которой она если и не отреклась, то отделилась. На обратном пути Райх рассказывает историю ее жизни. Брат Софии – тот самый генерал Крыленко, который в последний момент встал на сторону большевиков и оказал революции совершенно неоценимые услуги. Поскольку его политический талант был невелик, позднее ему доверили пост генерального прокурора. (Он был также обвинителем на процессе Киндермана.) Мать, по-видимому, тоже занимается какой-то деятельностью. Ей что-то около семидесяти, а она хранит следы большой энергичности. Под ее опекой теперь страдают дети Софии, которых перебрасывают от бабушки к тёте и обратно и которые уже несколько лет не видели матери. Оба они еще от ее первого брака с дворянином, который в гражданскую войну был на стороне большевиков и умер. Младшая дочь была там, когда мы пришли. Она удивительно хороша, необычайно уверенна и грациозна в своих движениях. Она кажется очень замкнутой. Как раз пришло письмо от ее матери, и из-за того, что она его открыла, возникла ссора с бабушкой. Но письмо было адресовано ей. София пишет, что ей больше не дают вида на жительство. Семья подозревает о ее нелегальной работе; дело серьёзно, и мать явно очень встревожена. Из комнаты замечательный вид на Тверской бульвар и ряд огней за ним.
16 декабря. Я писал дневник и уже не надеялся, что Ася придёт. Тут она постучала. Когда она вошла, я хотел ее поцеловать. Как обычно, мне это не удалось. Я вынул открытку Блоху, начатую мной, и дал ее ей, чтобы она что-нибудь дописала. Еще одна тщетная попытка поцеловать ее. Я прочитал, что она написала. В ответ на ее вопрос я сказал: «Лучше, чем то, как ты пишешь мне».
И за эту «наглость» она меня все же поцеловала, даже обняв при этом. Мы поехали на санях в город и пошли по магазинам на Петровке, чтобы купить ткань ей на платье, ее униформу.
Я называю его так, потому что у нового должен быть точно такой же покрой, как и у старого, привезённого из Парижа. Сначала в государственном магазине, там наверху, на длинных стенах вдоль всего помещения, картины, составленные из картонных фигур и призывающие к единению рабочих и крестьян. Изображение в распространённом здесь слащавом вкусе: серп и молот, шестерня и прочие механические приспособления сделаны, невероятно нелепо, из обтянутого плюшем картона. В этом магазине товар был только для крестьян и пролетариев. В последнее время, в связи с «режимом экономии», на государственных предприятиях не производят ничего другого. У прилавков толпа. В других магазинах, где пусто, ткани продаются только по талонам или – в открытой продаже – по непомерным ценам. С помощью Аси я покупаю у уличного торговца куклу для Даги, станька-ванька , главным образом для того, чтобы, пользуясь случаем, приобрести такую же и для себя. Потом у другого торговца – стеклянного голубя для рождественской ёлки. Говорили мы, насколько я помню, не много. – Позднее с Райхом в бюро к Панскому. Но, как выяснилось, он пригласил нас, полагая, что мы будем вести какие-то переговоры. Разужя пришёл, он сплавил меня в кинозал, где двум американским журналистам показывали фильмы. К сожалению, когда я наконец, после всех предварительных процедур, туда попал, демонстрация «Потемкина» уже заканчивалась, я видел только последнюю часть. Затем был фильм «По закону», поставленный по рассказу Лондона. Премьера, которая несколько дней назад прошла в Москве, обернулась провалом. Технически фильм хорош – его режиссёр Кулешов пользуется очень хорошей репутацией. Однако основной мотив сюжета доведён через нагромождение ужасов до абсурда. Говорят, что фильм должен выражать анархистскую тенденцию против всякого права вообще. К концу сеанса Панский сам поднялся в зал и в конце концов взял меня с собой в свой кабинет. Разговор там мог бы продолжаться долго, если бы я не боялся упустить Асю. Обедать все равно было уже поздно. Когда я пришёл в санаторий, Аси уже не было. Я пошёл домой, и очень скоро появился Райх, вскоре после него и Ася. Они купили для Даги валенки и прочее. Мы разговаривали в моем номере, и разговор зашёл в том числе и о пианино как детали обстановки, образующей в мелкобуржуазной квартире основной динамический центр господствующей там меланхолии и центр всех житейских катастроф. Эта мысль наэлектризовала Асю; она захотела написать со мной об этом статью, Райх – воплотить эту тему в скетче. На несколько минут Ася и я остались одни. Я помню только, что произнёс слова: «больше всего я хотел бы навечно», а она в ответ засмеялась так, что было ясно: она поняла. Вечером я был с Райхом в вегетарианском ресторане, в котором стены были покрыты пропагандистскими надписями. «Бога нет – религия это выдумка – мир никто не сотворил» и т. д. Многое из того, что имело отношение к капиталу, Райх не смог мне перевести. Потом, дома, мне наконец удалось поговорить с помощью Райха по телефону с Ротом. Он заявил, что уезжает на следующий день, и после некоторого размышления не оставалось ничего другого, как принять приглашение на ужин в половине двенадцатого в его отеле. В противном случае я вряд ли мог рассчитывать на разговор с ним. Очень усталый, я уселся около четверти двенадцатого в сани: Райх весь вечер читал мне из своих работ. Его эссе о гуманизме, правда существующее пока в предварительном виде, опирается на плодотворную постановку вопроса: как случилось, что французская интеллигенция, авангард великой революции, уже вскоре после 1792 года не смогла отстоять своих позиций и стала инструментом буржуазии? В разговоре об этому меня появилась мысль, что история «образованных» людей должна быть материалистически представлена как функция и в строгом соответствии с «историей необразованности». Ее истоки – в Новом времени, когда средневековые формы господства перестают быть формами того или иного (церковного) образования подданных. Принцип cuius regio, eius religio разбивает духовный авторитет светских форм господства. Подобная история необразованности могла бы показать, как в необразованных слоях общества осуществляется многовековой процесс освобождения революционной энергии из ее религиозной оболочки, и интеллигенция предстала бы в этом свете не только вечной армией отделяющихся от буржуазии перебежчиков, но и передовым редутом «необразованности». Поездка в санях меня очень освежила. Рот уже сидел в просторном зале ресторана. Зал встречает посетителя громким оркестром, двумя огромными пальмами, достигающими разве что половины высоты помещения, пёстрыми барами и буфетами и неброскими, изысканно сервированными столами, словно перенесённый далеко на восток роскошный европейский отель. Первый раз в России я пил водку, мы ели икру, холодное мясо и пили компот. Вспоминая весь вечер, вижу, что Рот произвёл на меня не столь хорошее впечатление, как в Париже. Или – и это более вероятно – я заметил в Париже те же, тогда еще скрытые вещи, которые поразили меня в этот раз своим открытым проявлением.
Мы более активно продолжили начатый за столом разговор в его комнате. Вначале он принялся читать мне большую статью о русской системе образования. Я осмотрелся в комнате, стол хранил следы явно роскошного чаепития не менее чем на три персоны. Рот производит впечатление человека, живущего на широкую ногу, гостиничный номер – столь же европейский по обстановке, как и ресторан, – наверняка стоит дорого, так же как и его ознакомительная поездка, включавшая посещение Сибири, Кавказа и Крыма. В разговоре, последовавшем за чтением, я довольно быстро вынудил его проявить свою позицию. Если выразить это одним словом: он приехал в Россию (почти) убеждённым большевиком, а уезжает из неё роялистом. Как обычно, страна расплачивается за смену политической окраски тех, кто приезжает сюда с красновато-розовым политическим отливом (под знаком «левой» оппозиции и глупого оптимизма). Его лицо изборождено множеством морщин и производит неприятное впечатление, словно он настороженно принюхивается. Это снова бросилось мне в глаза два дня спустя, когда я встретил его в институте Каменевой (ему пришлось на два дня отложить свой отъезд). Я принял его приглашение воспользоваться санями и около двух часов поехал обратно в свою гостиницу. Местами, перед большими отелями и перед кафе на Тверской, на улице есть признаки ночной жизни. Из-за холода люди сбиваются в этих местах в кучу.
17 декабря. Посещение Даги. Она выглядит лучше, чем когда-либо раньше. Дисциплина в интернате сильно действует на неё. Ее взгляд спокоен и сдержан, лицо округлилось и менее нервозно. Сходство с Асей уже не такое поразительное. Мне устроили экскурсию по интернату. Очень интересны классные комнаты со стенами, порой сплошь покрытыми рисунками и картонными фигурами. Что-то вроде храмовой стены, на которой выставлены работы детей как приношения коллективу. Красный цвет преобладает на этих поверхностях. Они испещрены советскими звёздами и портретами Ленина. Дети сидят в классах не за партами, а за столами на длинных скамьях. Они говорят «здравствуйте», когда в класс кто-нибудь входит. Поскольку интернат не выдаёт детям форму, многие одеты очень бедно. Поблизости от санатория играют другие дети, из крестьянских домов, расположенных неподалёку. Поездка в Мытищи и обратно на санях против ветра. После обеда в санатории у Аси настроение очень плохое. Партия в домино вшестером, в комнате отдыха.
На ужин, с Райхом, чашка кофе и пирожное в кондитерской.
Лёг рано.
18 декабря. Утром пришла Ася. Райх уже ушёл. Мы пошли покупать ткань, до того в Госбанк менять деньги. Уже в номере я сказал Асе о плохом настроении в предыдущий день. В это утро все шло хорошо, как нельзя лучше. Материал был очень дорогой. На обратном пути мы попали на киносъёмку. Ася рассказала мне, как это происходит. Как люди при этом тут же теряют голову, забыв все, часами следят за происходящим, потом сконфуженные приходят на работу и не могут объяснить, где они были. Это представляется очень вероятным, когда видишь, сколько раз здесь приходится назначать совещание, чтобы оно наконец состоялось. Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают, – это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным. Когда цивилизаторская расчётливость лишь постепенно пробивает себе дорогу в коллективе, то жизнь отдельного человека поначалу становится от этого только сложнее. В доме, где есть только свечи, жить проще, чем в доме, где есть электрическое освещение, но электростанция то и дело прекращает подачу тока. Есть здесь и люди, не заботящиеся о словах и спокойно принимающие вещи такими, каковы они в действительности, например дети, надевающие на улице коньки. Азарт, которым сопровождается здесь поездка в трамвае. Через заиндевевшие окна никогда не разобрать, где находишься. А когда узнаешь, то путь к выходу преграждает масса втиснувшихся в трамвай людей. Поскольку вход в вагон сзади, а выход – спереди, приходится пробираться сквозь толпу, и получится ли это, зависит от удачи и от бесцеремонного использования физической силы. В то же время есть кое-какой вид комфорта, неизвестный в Западной Европе. Государственные продовольственные магазины открыты до одиннадцати часов вечера, а дома – до полуночи и даже позже. Слишком много жильцов и квартирантов: дать каждому ключ от дома невозможно. – Замечено, что люди ходят по улице лавируя. Это естественное следствие перенаселённости узких тротуаров, такие же узкие тротуары можно встретить разве что иногда в Неаполе. Эти тротуары придают Москве нечто от провинциального города или, вернее, характер импровизированной метрополии, роль которой не неё свалилась совершенно внезапно. – Мы купили хорошую коричневую материю. После этого я пошёл в «институт», получил там пропуск на Мейерхольда, а также встретил Рота. В доме Герцена я играл после еды с Райхом в шахматы. Тут подошёл Коган с репортёром. Я сочинил, будто собираюсь написать книгу об искусстве в условиях диктатуры: итальянском при фашизме и русском при пролетарской диктатуре. Еще я говорил о книгах Шеербарта и Эмиля Людвига. Райх был чрезвычайно недоволен этим интервью и объяснил, что я чрезмерным теоретизированием серьёзно поставил себя под удар. Пока еще интервью не опубликовано (я пишу это 21-го), посмотрим, какова будет реакция. – Асе не повезло. Одну больную, сошедшую с ума после менингита, – она знала её еще по больнице – поместили в соседнюю палату. Ночью Ася устроила среди женщин мятеж, и в результате больную убрали. Райх доставил меня в театр Мейерхольда, где я встретился с Фанни Еловой. Но у института плохие отношения с Мейерхольдом: поэтому они ему не позвонили и нам не дали билетов. Побыв немного в моей гостинице, мы поехали в район Красных ворот, чтобы посмотреть фильм, о котором Панский сказал мне, что он побьёт успех «Потемкина». Сначала не было свободных мест. Мы купили билеты на следующий сеанс и пошли в комнату Еловой неподалёку выпить чаю. Обстановка и здесь была скудной, как и во всех комнатах, которые я уже видел. На серой стене большая фотография Ленина, читающего «Правду». На узкой этажерке несколько книг, в простенке у двери две дорожные корзины, у одной стены кровать, у другой – стол и два стула. Время в этой комнате за чашкой чая с куском хлеба было самым лучшим за этот вечер. Потому что фильм оказался невыносимой халтурой, и к тому же его крутили так быстро, что его нельзя было ни смотреть, ни понимать. Мы ушли, прежде чем он закончился. Обратная дорога в трамвае была словно эпизод из периода инфляции. И еще я застал в своём номере Райха, который снова ночевал у меня.
19 декабря. Я уже не помню точно, что было с утра. Кажется, я видел Асю, а потом, уже после того как доставил её обратно в санаторий, собрался в Третьяковскую галерею. Но я не нашёл её и блуждал на пронзительном холоде по левому берегу Москвы-реки среди строек, гарнизонов и церквей. Я видел, как маршировали красноармейцы, а дети тут же играли в футбол. Девочки шли из школы. Напротив остановки, на которой я потом наконец сел в трамвай, чтобы вернуться домой, была сияющая красная церковь с колокольней и куполами, отгороженная от улицы длинной красной стеной. Моё блуждание утомило меня еще сильнее оттого, что я носил с собой неудобный пакет с тремя домиками из цветной бумаги, которые я с превеликим трудом добыл за гигантскую цену по 30 копеек за штуку в лавочке на одной из больших улиц левого берега. После обеда у Аси. Я вышел, чтобы принести ей пирожное. Когда я выходил из дверей, я обратил внимание на странное поведение Райха, он не ответил на моё «пока». Я списал это на плохое настроение. Потому что, когда он на несколько минут выходил из комнаты, я сказал Асе, что он наверное принесёт пирожное, и когда он вернулся, она была разочарована. Когда я через несколько минут вернулся с пирожным, Райх лежал на постели. У него случился сердечный приступ. Ася была очень взволнована. Я заметил, что её поведение при недомогании Райха было очень похоже на то, как я раньше вёл себя, если Дора болела. Она ругалась, вела себя неумно и больше провоцировала, чем пыталась помочь, и поступала как человек, который хочет довести до сознания другого, какую несправедливость тот совершил, заболев. Райху понемногу становилось лучше. Но в театр Мейерхольда я из-за этого происшествия должен был идти один. Потом Ася доставила Райха в мой номер. Он ночевал в моей постели, а я спал на софе, приготовленной для меня Асей. – «Ревизор», хотя он и был сокращён по сравнению с премьерой на час, все же закончился за полночь, начавшись без четверти восемь. Спектакль был поделён на три действия и состоял всего (если я не ошибаюсь) из 16 картин. Многочисленными высказываниями Райха я был в целом подготовлен к тому, что мне предстояло увидеть. И все же меня поразили невероятные расходы на постановку. При этом более всего на меня подействовали не дорогие костюмы, а декорации. За немногими исключениями действие происходило на крохотной наклонной площадке, в каждой картине на ней размещалась новая конструкция из красного дерева в стиле ампир и новая мебель. Тем самым создавалось множество прелестных жанровых картин, в соответствии не с драматической, а социологически-аналитической основной направленностью этой постановки. Ей придают здесь большое значение как адаптации классической театральной пьесы для революционного театра, однако в то же время попытка считается неудачной. Партия также высказалась против инсценировки, и умеренная рецензия театрального критика «Правды» была отвергнута редакцией. Аплодисменты в театре были жидкими, и возможно, что это также объясняется не столько самим впечатлением, сколько официальным приговором. Потому что постановка безусловно была великолепным зрелищем. Но такие вещи, по-видимому, связаны с господствующей здесь общей осторожностью при открытом выражении мнения. Если спросить малознакомого человека о его впечатлении от какого угодно спектакля или фильма, то в ответ получаешь только: «у нас говорят так-то и так-то» или «большинство высказывается об этом так-то». Режиссёрский принцип постановки, концентрация сценического действия на очень маленьком пространстве, приводит к чрезвычайно большим роскошествам, нагромождению материала, не в последнюю очередь это касается занятого состава актёров. В сцене празднества, представлявшей собой шедевр режиссёрского мастерства, это достигло своего максимума.
На маленькой площадке, среди бумажных, лишь намёком обозначенных пилястр, актёры были сбиты в тесную группу человек в пятнадцать. (Райх говорил о преодолении линейного расположения.) В общем это производит впечатление роскошного торта (очень московское сравнение – только здесь есть торты, которые делают его понятным) или, пожалуй, движения танцующих фигурок на курантах, музыкой для которых является текст Гоголя. К тому же в спектакле много настоящей музыки, а маленькая кадриль, исполненная в конце, была бы несомненной удачей для любого буржуазного театра; в пролетарском театре такого не ожидаешь. Формы пролетарского театра наиболее ясно проявляются в эпизоде, где балюстрада делит сцену вдоль; перед ней стоит ревизор, за ней – толпа, следующая за всеми его движениями и ведущая очень выразительную игру с его шинелью – то держит ее шестью или восемью руками, то накидывает ее на опирающегося на парапет ревизора. – Ночь на жёсткой постели прошла очень хорошо.
20 декабря. Пишу 23-го и уже ничего не помню о том, что было с утра. Вместо этого кое-что об Асе и наших с ней отношениях, несмотря на то, что Райх сидит рядом со мной. Я оказался перед почти неприступной крепостью. Все же я полагаю, что уже одно только моё появление перед этой крепостью, Москвой, означает первый успех. Но всякий следующий, решающий успех кажется связанным с почти неодолимыми препятствиями. Позиция Райха сильна, из-за явных успехов, которые он один за другим одерживает после чрезвычайно трудного полугодия, которое он провёл здесь без языка, в холоде, а может быть, и голоде. Сегодня утром он сказал мне, что надеется через полгода получить должность. К условиям работы в Москве он относится с меньшей страстностью, чем Ася, но даётся это ему не легче. В первое время, приехав из Риги, Ася даже хотела сразу вернуться обратно в Европу, настолько безнадёжной показалась ей затея получить здесь какую-нибудь должность. Когда ей все же это удалось, после нескольких недель работы на детской площадке её подкосила болезнь. Если бы она за день или два до того не была принята в профсоюз, она осталась бы без ухода и, наверное, умерла бы.
Подбор фотоматериалов Павла Хорошилова.