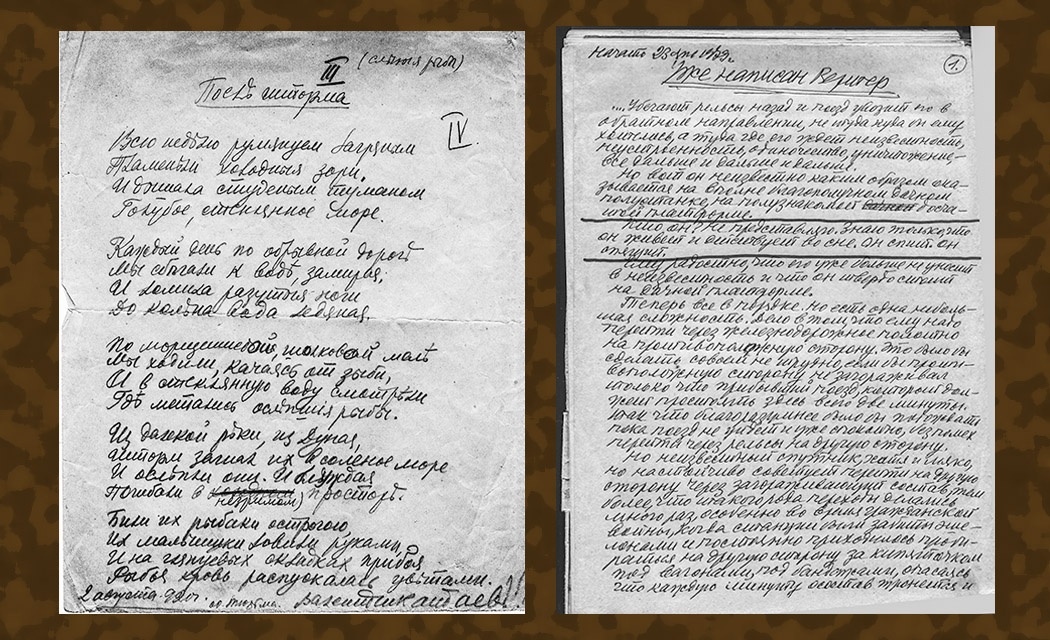Кировская тюрьма
Что случилось? Почему нас сегодня будят так рано?
По падающей на потолок узкой полоске света мы всегда узнаем — начинается новый день. Сейчас полоски нет. На дворе еще ночь.
— Фамилия, имя, отчество, год рождения?
Господи, куда опять! Вот отделяют от остальных маму, Тамару, меня, потом пожилую еврейку, эстонку с островов. А как же Алечка? Она стоит около мамы, в глазах ожидание и страх — а вдруг не назовут, вдруг оставят, потому что здесь все может случиться.
— Фамилия? Отвечайте громче. Имя, отчество. Год рождения.
Какое счастье — нас не разлучили.
И опять, как уже не раз, нас подхлёстывают слова: «живо, собирайтесь с вещами», и мы, торопясь, кое-как связав наши пожитки, выходим в коридор. Там нас окружает какое-то особое беспокойство и суматоха. Нас снова проверяют, пересчитывают, потом ведут по лестнице вниз.
И хотя нас всех согнали, крича и понукая «живо, бегом!», теперь, уже расписавшись в том, что нам вернули со склада все наши вещи, что нас ознакомили со статьёй, карающей за разглашение того, что мы здесь видели и слышали, уже опрошенные «жалобы есть?», душой и телом готовые к отъезду, мы стоим час, и два, и три...
Нижнее большое и грязное помещение плотно набито людьми. Все одинаково серые, в одинаковых серых ватниках, хотя на дворе лето, все с котомками и мешками. Но присмотреться — и сквозь это серое однообразие начинают проступать лица: у того вот пожилого человека, стоящего недалеко от нас, такие ярко-голубые, умные, добрые глаза — до чего же они похожи на папины. Сейчас он жмёт кому-то руку на прощанье, что-то торопится сказать. Быть может, тот, другой, с морщинами на молодом бледном лице, его сын или друг, их повезут в разные лагеря, и они больше никогда не увидятся. А там, в стороне, плачет старая женщина, у которой пропали все вещи. Она ищет их, суетится. На неё кричат. Пугаясь, она замолкает и с отчаянием смотрит на окружающих, прося сочувствия: эти жалкие вещи — последнее, чем она владеет, без них ей конец. А чуть дальше двое парней-уголовников затеяли шум и драку — уж, конечно, не зря: то ли им надо остаться, то ли ехать другим этапом. Их бьют, разнимают, надевают наручники и куда-то уводят.
Татьяна Кашнева. 19 лет. Елена Борисовна Кашнева (Позднякова), выпускница Таллиннской консерватории. Таллинн, 1939
На дворе давно светло, в камерах, вероятно, уже отобедали, а мы все еще скученно стоим, недоспавшие, с пустыми желудками, и чего-то ждём. Наконец нам раздают дорожную пайку — хлеб и твёрдую солёную рыбу, потом выводят во двор и, подгоняя криками и лаем собак, рассаживают по машинам.
И снова путь.
А в вагоне не так уж плохо, в отделении всего восемь женщин. Мы с Алей устраиваемся на нижней полке и скоро засыпаем. Не спит только мама, она тихо сидит в уголке и сторожит наш сон — как бывало в детстве, когда после болезни мы вдруг засыпали спокойно и крепко. Мы спим весь день и всю ночь. Утром становится холодно, за решёткой окна плывёт светлеющее небо.
Неожиданно в стенку выстукивают нам что-то непонятное, потом в законспирированную щёлку, известную только бывалым пассажирам, просовывается обрывок бумаги. Что за чушь! На бумаге пронзённое сердце, цветок и какие-то каракули — это соседи предлагают нам любовь и дружбу до гроба.
А в Кирове опять: «Не смотреть по сторонам! Давай в машину!»
Куда нас теперь повезут?
Вот мелькнули купола церкви и синий кусочек реки, вот высокий выбеленный забор, тюремная сторожевая вышка.
— Это режимная, — говорит кто-то знающий, и страх сжимает сердце: почему сюда?
— Да, пересылка полна, мест не хватает.
Ах, если бы кировская тюрьма была б всего-навсего дурным сном, в котором все нелепо и неотвратимо!
Вот нас ведут по грязно-белому пустому коридору. «Руки за спину, лицом к стенке. Ну чего, бабка, не слышишь, что ли, говорю: к стенке. Не оборачиваться!» Кто-то проходит. Потом звук запираемой двери — можно снова продолжать путь. Нас приводят в приёмную. На вокзале нас уже сдавали новой охране, теперь передают тюрьме. Входим мы по очереди. Обе женщины из Эстонии, приехавшие с нами, исчезают неизвестно куда. С ними мы здесь больше не встретимся.
В этой тюремной приёмной я впервые вижу толстую папку, набитую бумагами. Я успеваю заметить фотографию и длинный номер внизу, это, видимо, я анфас и в профиль — совсем преступное лицо. «Дело» объёмистое. Просто смешно, что там может быть в этих наших делах? Но и тени улыбки нет на лице принимающего нас в лоно тюрьмы. Ему не смешно и не грустно — он занят своей очень ответственной работой. Здесь берут отпечатки пальцев — каждый палец ставшей безвольной руки обмакивают во что-то наподобие дёгтя и крепко прижимают к листу. Снова всех обыскивают, бреют, колют.
— Вы хоть маме не делайте укол, у неё сердце слабое, ей семьдесят четыре года.
— Ничего, выдержит.
Конечно, мама выдержит все. Она спокойно войдёт после всех унизительных процедур в узкую камеру кировской тюрьмы, с чуть холодной приветливостью поздоровается с незнакомыми женщинами, будет, как всегда, заботиться о нашем — и никогда о своём — удобстве. От неё никто не услышит ни сокрушений, ни жалоб: «Главное — надо уметь сохранять внутреннюю гармонию».
— Ах, мамочка, ну это же просто смешно слушать. Ну какая здесь может быть гармония?
— Почему смешно? — И мамины глаза станут печальными, такими они всегда бывают, когда мы ее обижаем.
«Гармония», «эстетика» — пусть эти модные в начале века слова у иных вызывают улыбку, для мамы это девиз, которому она никогда не изменит.
В оштукатуренной, как и коридор, грязно-белой, похожей на склеп камере нас семь женщин. Восьмой топчан — здесь не нары, а деревянные топчаны — пустует. Ссыльные здесь только мы и Тамара.
Одна из заключённых, неопрятная немолодая женщина с бегающими злыми глазами, почти не разговаривает, только слушает. По ночам ее часто куда-то вызывают, и она приходит под утро. Ее не угнетают ни замки, ни духота, ни безделье. Когда на нас не смотрят в глазок, она вынимает осколок зеркала и красит губы и щеки в яркий лилово-красный цвет. И зеркало и краска появляются неизвестно откуда и исчезают мгновенно неизвестно куда. Когда у Алёнушки в первый же день пропадает тёплый шерстяной платок, мы все знаем, кто его взял, но молчим — доказательств у нас нет.
Вторая женщина тоже неразговорчива. Она молода и на вид скромна. Часто она усаживается за свой топчан на пол, чтобы там, будучи не видимой охранником, вышивать какую-то нескончаемую салфеточку. Но от бдительного ока никуда не скрыться. Не успевает она сделать несколько стежков, как с шумом распахивается дверь и нас всех выводят в другое помещение. Там мы долго мёрзнем раздетые, пока не осмотрят все вещи в камере. И хотя в камере все перевернут, преступная иголка не будет найдена.
Третья женщина с красивым темным византийским лицом, вся в черном, с черным повязанным по-крестьянски платком, — молдаванка.
— Красота у меня на родине какая! Все сады да сады, яблок, груш сколько душе угодно, — доверчиво рассказывает она тихим своим голосом. — Жили хорошо, муж у меня был работящий, лучший шорник на селе, а перед самой войной его забрали, увезли куда-то. Кому он не угодил — не пойму. Может, на наше добро злые люди позарились. А потом и меня с сыночком повезли. В Сибирь. А что за Сибирь — я и не знала, не очень я грамотна. Ох, как трудно сперва было, все чужое. Я и по-русски не понимала. И холодно было с непривычки. Потом пообвыкла. Только все у меня одно на душе — домой, домой. Муж-то, думаю, уж, наверно, вернулся. Он упрямый, все по-своему делал. Ждёт он, думаю, меня и сыночка. И так потянуло меня, сил нет. Собирайся, говорю, сынок, домой. Хоть и далеко, свет не без добрых людей, дойдём.
Поймали их только в Кировской области. Судили за побег. И дали срок — двадцать лет лагерей. Сейчас ее сын тоже здесь, в тюрьме, но видеться им нельзя.
— Как он плакал, как цеплялся за меня, когда разлучали нас, еле от меня оторвали. Боюсь я за него, мал ведь еще — двенадцать годков. Каждый его обидеть может. С ним одни головорезы сидят. Им все нипочём. Плохому станут учить. А не послушается — убить могут, так мне люди сказывали. Господи, да я любую муку готова принять, лишь бы сыночка отпустили. Ему-то это страдание за что?
В скорби не находит она себе места. Все винит и винит себя, что сгубила сына. По ночам неслышно опускается на колени и молится, склонённая долу: «Боже милостивый, спаси и помилуй». А на прогулке смотрит, не отрываясь, темными сухими глазами всегда на одно и то же прикрытое намордником окно. Оттуда сверху на весь тюремный двор несутся вопли и отборный мат. Кричат — нет, мы не ошиблись — кричат «Долой Сталина!» и почему-то — «Да здравствует Трумэн!». В той камере подростки — отпетые, их ничем не запугать, и конвойные делают вид, что ничего не слышат.
А женщины, которая занимает восьмую, пустующую койку, все нет и нет. Ее вводят через два дня. Она мелко и знобко дрожит и растирает распухшие запястья. Растрёпанные густые рыжие волосы падают на посиневшее от холода лицо с тонкими чертами. Над глазом, окружённым чернью, вспухло веко, губы растресканы. Нас пугает красота этого лица, будто с малых лет обречённого на тление и распад. Женщину толкают, она дерётся и охрипшим голосом выкрикивает непристойные слова.
— Опять, стерва, в холодную захотела!
— Чего там, плохо, что ли? Приходи, миленький, туда со мной спать, не соскучишься, — лезет она на конвойного.
— Ничего, — отстраняясь и смотря высокомерно и предостерегающе больше на нас, чем на неё, произносит тот устрашительно, — ничего, на всякое ядие есть у нас противоядие.
Дверь запирают.
— Меня карцером не запугаете, — бросает женщина вслед, — я всю жизнь по тюрьмам. Скорей уж я вас, гады, изведу.
И она изо всех сил колотит кулаками в дверь, потом бежит к окну, хотя к нему приближаться запрещено, и, подтягиваясь на решётке, пронзительно кричит в верхнюю, пропускающую свет щель что-то совсем бесстыдное и страшное. Когда же нас выводят на прогулку, она ходит по кругу приплясывающей походкой, будто все время ее дёргают за верёвку.
— Эй ты, поганец, - запрокинув кверху своё избитое лицо, дразнит она стоящего на вышке, — чего на меня глаза пялишь! Баловаться со мной — мордой не вышел! »
Задрав юбку, она показывает ему зад. Тут ее опять уводят, и снова двое суток пустует ее место в камере.
Здесь, в этой камере, тюремные дни особенно голодны и безнадёжны. Нас почти не кормят, дают раз в день мороженую картошку и половину селёдки, в которой ползают черви. Аля, видимо, отравилась. Но как бы она ни мучилась, ее в неположенное время из камеры не выпускают. У мамы сильные боли в спине, она с трудом встаёт и садится.
— Мамочка, приляг, — просим мы, — мы тебя закроем. — Но тут же раздаётся окрик — лежать запрещено! — глазок все видит.
Воздухом мы здесь дышим пятнадцать минут в маленьком огороженном дворике, шагая руки за спину и глядя в спину впереди идущему. Теперь ленинградская пересылка кажется нам милым местом на земле — там нам давали и суп, и кашу, а главное, там рядом были люди, иные много несчастнее нас, но мы могли помочь друг другу хотя бы словом. И еще там была надежда услышать о близких — ведь каждый день прибывали новые заключённые, а среди них были, конечно, и таллинцы. Да, там переполненная тёмная и грязная камера была много человечнее теперешнего нашего побеленного склепа. Здесь мы отстранены от всего живого, нас окружает полное молчание. Мы не знаем, что стало с прибывшими вместе с нами знакомыми женщинами, не знаем, сколько времени нас здесь продержат, отправят ли куда-нибудь или оставят в тюрьме, не знаем даже, кто мы — ссыльные или заключённые на неведомый срок. А когда в замочной скважине поворачивается ключ, в дверном проёме возникают никакой мыслью, никаким чувством не отмеченные пустые личины нечеловеков. И мы, как в детстве, ищем около мамы спасения от этих вышедших из дурного сна и обретших плоть призраков.
Татьяна Борисовна Кашнева с детьми. А впереди ссылка… Евгений Евгеньевич Золотов. Перед ссылкой. 1940
Часть конвойных здесь женщины. Таких женщин не видели мы ни до кировской тюрьмы, ни после. Это они бросают нам миску с мороженым картофелем и гнилую рыбу и ухмыляются, если мы не можем есть — будьте довольны, что вас хоть так кормят. Им в удовольствие нас обыскивать, — мы стоим голые, покрытые гусиной кожей, они придираются ко всему, чтобы продержать нас так как можно дольше. Нравится им подгонять на прогулке нашу маму, которой теперь из-за боли в спине все труднее и труднее ходить. Но, пожалуй, всех страшнее женщины в нечистых белых халатах, задающие всем один и тот же вопрос — не беременна ли? Равнодушно суют они больной Алёнке таблетку, которую надо при них же проглотить.
— Полежать? — ухмыляются они. — Лежат у нас в больнице.
Нет, нет, только не тюремная больница. И Аля молчит, хотя еле держится на ногах от слабости, она давно уже ничего не может есть.
Не прослушают ли они маму?
— Сами знаем, кого слушать. И чего особенного — спина болит, не молоденькая.
Зато они с удовольствием делают нам уколы неизвестно от каких болезней. Игла всегда тупая, но не дай бог нам поморщиться.
— Кто вы такие — враги советской власти! А мы тут с вами еще цацкаемся, лечим вас.
Все эти личины не наважденье, нет. Они не исчезнут, хоть крестись, хоть трижды плюй. Они есть, они звенья одной цепи, оградившей нас от мира, недосягаемого, возможно, вовсе не существующего.
За стенами нашей тюрьмы пустое пространство. Когда-то там была жизнь, где-то стоял старый город, были там сырые зимы, и солнце летом не слишком щедрое, и в осенние дни неласково хмурое море. Но были и непотухающие закаты, и цветущая сирень, и узкие, немноголюдные, сказочные в белую ночь улицы, и запах июньских полей за городом, и нагретый солнцем песок у моря. И белые паруса вдали, белые облака, белые чайки...
...Я стою на берегу и смотрю, как Женя с малышами на плечах входит в воду. Вот она ему уже по горло. Я кричу — назад! — но ветер относит мой голос. Нет, не стоит об этом. Уже почти все забыто, даже Женя, даже дети. Я ничего больше не жду, ничего не хочу, разве что лечь и заснуть.
Сон, сон, дай покой моей душе, ни о чем бы не думать, ничего бы не знать...
А за стенами тюрьмы жизнь, которая для нас больше не существует, идёт своим чередом. Далеко от меня живут мои дети, непривычно бездомные в маленькой комнате плохой гостиницы — у Жени иного пристанища в Тарту не было, кое-как учатся, целый день, пока не вернётся отец с работы — а он возвращается поздно, — где попало бегают. Ириночка все лето пишет мне — мамочка, возьми нас скорей к себе и просит отправить письма туда, где живёт ее мама. Но их отправлять некуда, и письма остаются без ответа. А муж мой все мечется и мечется, за ним уже приходили, не застали, и, оставив детей у знакомых, он едет к строителю ДнепроГЭСа Казьмину. Он еще верит, что его возьмут на работу (пусть в любую глушь, только бы остаться свободным), верит, что можно будет выписать к себе семью. Когда же зряшными оказываются все усилия, что-то обрывается в его душе, без того уже истерзанной нашей разлукой. Боже мой, немало зла причинили мы друг другу за этот год, немало разрушительных слов было нами сказано, слов, теперь навсегда непоправимых.
Евгений Евгеньевич Золотов. Возвращение из лагеря. 1946. Возвращение из первой ссылки. Татьяна Борисовна Кашнева (стоит), Елена Борисовна Позднякова, Ирина и Евгений Золотовы. 1946. Все несчастья позади. Подрастает новое поколение. Евгений Евгеньевич Золотов и Елена Борисовна Позднякова (стоят), Татьяна Борисовна Кашнева с внучками Ириной и Мариной. 1967
Да, жизнь идёт своим чередом. В Таллине, в оставленном нами недобром доме, живут теперь чужие люди. Маленькая Леночка все еще лежит в больнице, почему-то покинутая и мамой своей, и бабушкой. Она не видела, как за бабушкой приехала машина и увезла ее, не видела, как ее мама с сухими глазами шагала по каменному полу КПЗ из угла в угол, из угла в угол. Она ничего не знала о наших скитаниях по тюрьмам, она лежала всеми заброшенная, часто впадая в забытье, и никому не ведомо, какие картины рождались в ее затемнённом воспалением мозгу...
— Мама, Леночка не умерла? — спрашивает вдруг Аля.
Она, видимо, тоже не спала, просто лежала с закрытыми глазами. Боже мой, до чего прозрачно стало ее лицо! Мама ласково прикасается к Алиной руке.
— Успокойся, детка, Леночка уже поправляется, и скоро ты ее увидишь.
— Мама, ты правда так думаешь, я ее правда увижу?
— Я совершенно уверена, — говорит мама. Тогда Аля начинает молча плакать, и слезы облегчают ее душу.
Сон, сон, опусти нам на глаза свою благостную руку, освободи нас от мерзостных пут и, проведя невредимо сквозь населённую призраками тьму, окружающую землю, покажи нам необъятные дали, морскую глубь, звёздное небо. Подари нам светлое забвение.
«Всего одна жизнь...»
Кто-то из писателей заметил, что каждый человек может написать одну-единственную книгу. И она будет уникальной, если это правдивая повесть о собственной жизни. Именно такой назвала бы я невыдуманную повесть таллинки Татьяны Борисовны Кашневой.
Как же вообще узнала я об этой книге? Много, лет тому назад, познакомилась с Татьяной Борисовной и с ее сестрой, известной в Эстонии переводчицей. И сразу безоговорочно мысленно объяснилась в любви к ним обеим. И, как потом узнала, в этом чувстве была не одинока. Сестры пленяли изяществом, внутренним и внешним, деликатностью и умом, какой-то особой прелестью и красотой, присущей женщинам, возрасту неподвластным.
Я знала от одной общей знакомой, что Татьяна Борисовна написала повесть о репрессиях в Эстонии, которым дважды подверглись она и ее семья. Но факт этот, конечно, не подлежал огласке, и я не смела спросить ни их, ни кого-либо другого; тогда, в 73-74-м году, неосторожный вопрос или просто любопытство были и неуместны, и опасны.
Итак, рукопись невыдуманной повести, которая писалась 10 или 12 лет, еще столько же хранилась в глубокой тайне. Как многие люди ее поколения, Татьяна Борисовна никогда не заблуждалась насчёт КГБ, и посему справедливо полагала, что если станет известен факт ее писаний о деяниях этой организации, то кара будет молниеносна и неумолима.
И только в 88-м, когда хлынул к читателям поток запрещённой литературы, в том числе и лагерной, она нарушила обет молчания. И не потому, что избавилась от иллюзий и поверила в «новые времена». Просто исчез страх. «Я уже стара, зачем я им?» – спокойно сказала она мне, развязывая тесёмки пухлых, пожелтевших и обветшавших от времени папок, где хранилась рукопись.
О чем же эта единственная книга ее жизни? О ней самой и истории ее семьи. О том, как мерное и естественное течение жизни этой семьи было прервано насильственной высылкой. Один раз в 41-м году, второй – в 50-м. Никто из членов семьи Татьяны Борисовны политической деятельностью никогда не занимался, не состоял в каких-либо партиях, никаких антиправительственных действий ни в буржуазное время, ни в Советской Эстонии не совершал. Об этой семье можно сказать – типичные представители русской дворянской интеллигенции. Я бы еще добавила – высокообразованной и трудовой. Отец Татьяны Борисовны, поселившийся с семьёй в Таллине в 1914 году, был крупным и опытным инженером-строителем, и муж ее тоже работал в этой области. Что же такое 14 лет, выбитых из жизни семьи? Для матери – последний этап ее жизни; для Татьяны Борисовны и ее мужа – годы, которые называют прекрасной порой человеческой зрелости, расцвета физических и творческих сил; для младшей сестры – начало первой ссылки совпало с началом юности; для детей она пришлась на возраст перехода от младенчества к детству.
– Сколько вам было лет тогда? – спросила я Татьяну Борисовну.
– Тридцать, – ответила она.
Татьяна Борисовна и ее сестра в юности получили воспитание, подобающее их кругу, – закончили гимназию, владели иностранными языками. Татьяна Борисовна училась в балетной школе в Париже, жила в Германии – словом, поездила по Европе. И к моменту "воссоединения", а затем высылки была не только полна жизни, впечатлений, молода и прекрасна, но и счастлива. Она вернулась в Таллин> столицу еще не зависимой в ту пору Эстонской Республики, не предполагая, что вскоре станет без всякого ходатайства гражданкой СССР – великого восточного соседа, одну из столиц которого навсегда покинула ее семья накануне революции.
После всех своих европейских скитаний здесь, в Таллинне, она встретила в высшей благородного и достойного человека, ставшего ее мужем, отцом ее сына и дочери, ее единственным и дорогим спутником на всю жизнь.
Я пытаюсь приложить обстоятельства этих 14-ти лет к себе, своей семье, семьям своих знакомых, и воображение отказывает мне. Какими мы были бы там? Какими вернулись бы? И вернулись бы вообще? И главное, как бы мы стали жить дальше? Как сумели бы связать разорванные нити наших судеб? Не знаю...
Эти 14 лет какая-то аура оберегала большую семью. Какие-то силы провидения не дали ей погибнуть, раствориться, потерять друг друга, уйти в небытие... Может быть, это награда, не знаю кем данная? За ясность тех нравственных ориентиров, которые одно поколение указывало другому. И воспитание было таким, на всю жизнь, когда усваивались как данность понятия человеческой порядочности, достоинства, милосердия и любви к ближнему. И не подлежали перерождению ни при каких обстоятельствах. Честь оставалась честью, порядочность – порядочностью, доброта – добротой. Отсвет всех этих, я бы сказала, родовых качеств семьи, а если шире – качеств истинной русской интеллигенции, лежит на страницах этой книги о жизни, написанной Татьяной Борисовной Кашневой. Оценим это.
Татьяна Зажицкая.