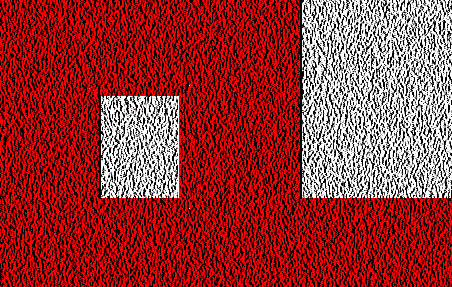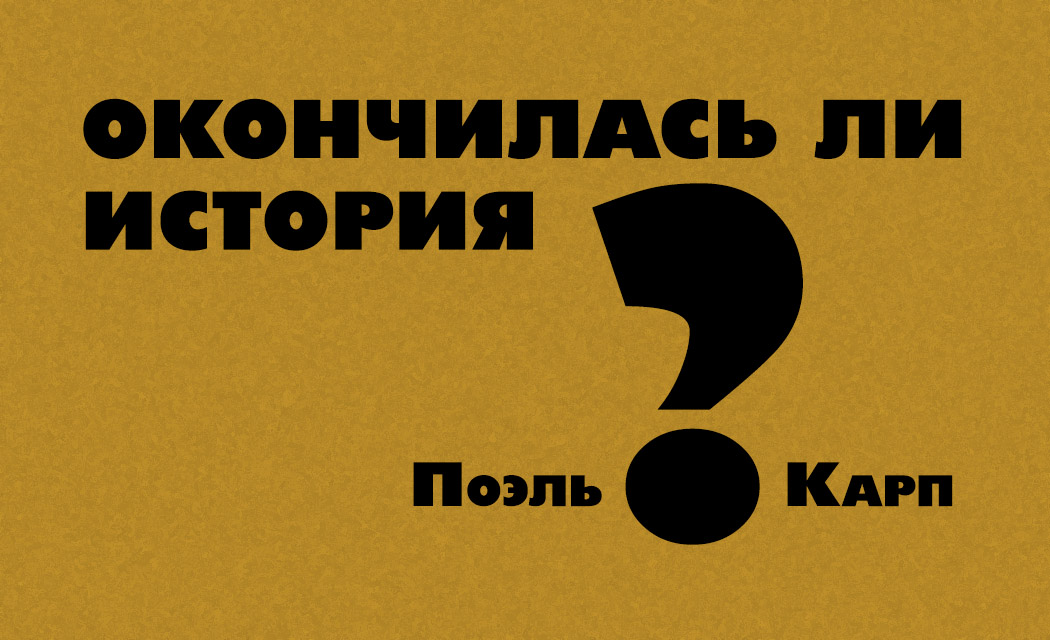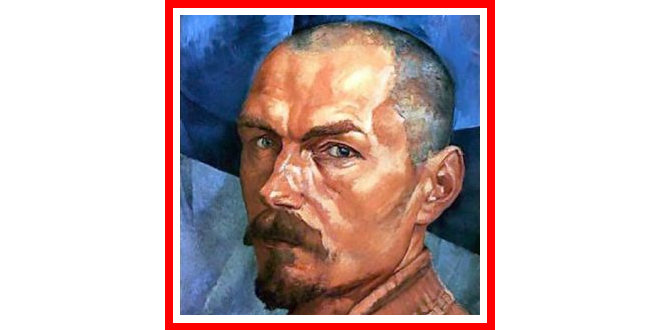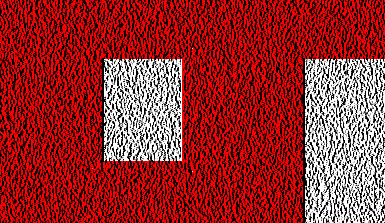Мост над эпохой провала: Музиль
Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол Стэном Мьюзиелом и вождем итальянского народа Бенито Муссолини. Музилю посвящена одна фраза — пять строк: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвященная Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, мировоззрение, семейная жизнь; учтено все, включая подхваченный в юные годы сифилис. Место литературы (М) в массовом обществе, кумирами которого являются звезды спорта и политики, а верховным судьей и распорядителем — рынок, можно, таким образом, описать с помощью уравнения: М = М (1) : М (2), где М (1) — Музиль, а М (2) — Муссолини.
На вечер Музиля в швейцарском Винтертуре, первый и последний, где автор читал отрывки из своего романа “Человек без свойств”, пришло пятнадцать слушателей. Человек пять шло за его гробом. Посмертный редактор романа Адольф Фризе составил список отзывов о Музиле. В разные годы разные люди говорили о нем так: сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомнение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнется, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, а вообще ничего подобного — может быть, и крупный, но малоприятный персонаж; одет безупречно, есть деньги или нет — костюм от лучшего портного, туфли первый сорт, считает себя недооцененным, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого, падок на похвалы… И так далее. Однажды это холодное одиночество было нарушено, Музиль написал нечто вроде воззвания к собратьям по перу под заголовком “Я больше не могу”. Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру, инфляция сожрала небольшое состояние, и с тех пор он живет от одного случайного заработка до другого; нация равнодушна к своему писателю. К короткому обращению (оставшемуся в бумагах) приложено “Завещание” — в четырех вариантах. Он работал над этим криком о помощи, как работают над прозой, потому что под его пером все становилось литературой, как все, до чего касался фригийский царь, превращалось в золото. Четыре редакции отличаются друг от друга не только стилистически; так же как главы неоконченного романа, они представляют собой не столько ступени совершенствования, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте, — писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.
Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своем времени и вопреки ему. Всякий литературный текст “актуален”, тем не менее литература и общественность — понятия, связанные скорее обратной зависимостью: чем литература актуальней, тем она меньше литература. Несколько великих исключений, Аристофан или “Бесы”, лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злоба дня переселяется в комментарий — кладбище злободневности; то, что некогда было животрепещущим, в глазах потомков всего лишь повод для чего-то бесконечно более важного. Жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе черной неблагодарностью: литература, которая хочет говорить только о самом жгучем и наболевшем, оказывается банальной, то есть художественно несовременной. Быть своевременным в литературе — значит быть несовременным.
Присутствие Музиля на прокоммунистическом конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году кажется недоразумением. (Об этом конгрессе русский читатель может прочесть в мемуарах Ильи Эренбурга: упомянуто множество участников, Музиля он не заметил.) Речь Музиля никак не соответствовала настроению публики и тех, кто сидел на подмостках. “Я, — сказал он, — всю жизнь держался в стороне от политики, так как не чувствую к ней никакого призвания. Упрек в том, что никто не вправе уклоняться от политики, ибо она касается каждого, мне непонятен. Гигиена тоже касается всех, и все же я никогда не высказывался о ней публично. У меня нет призвания быть гигиенистом, так же как нет таланта руководить экономикой или заниматься геологией. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того, как женщины раньше доставались победителям. Я же, со своей стороны, полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и свое достоинство. Культура предполагает непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твердо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не обладала качеством наднациональности, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живет над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далеким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура — не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времен и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих”.
Услыхав о том, что Австрия объявила войну Сербии, Джойс, живший на положении эмигранта в Триесте, говорят, воскликнул: “А как же мой роман?” Автору “Улисса” принадлежит знаменитая формула: silence — exile — cunning (один из возможных переводов: молчание — изгнание — мастерство). Прекрасный девиз — если есть на что жить. Существует античный анекдот о том, как Александру был представлен умелец, умудрившийся записать на пшеничном зернышке всю “Илиаду”. Полюбовавшись зерном, великий полководец вернулся к своим делам, но заметил, что человек все еще стоит на пороге. Царю объяснили, что мастер ожидает вознаграждения. “А, — воскликнул Александр, — разумеется! Пусть ему выдадут мешок пшеницы с тем, чтобы он мог и дальше упражняться в своем замечательном искусстве”. В тридцатых годах в Вене образовалось “Общество Роберта Музиля”: несколько состоятельных людей выразили готовность выплачивать автору “Человека без свойств” ежемесячное пособие, дабы он и впредь мог упражняться в своем искусстве — закончить гигантский роман. Сам писатель рассматривал эту помощь как нечто естественное, считал, что оказывает честь членам Общества, позволяя им содержать Музиля, и даже проверял, все ли аккуратно платят взносы. После присоединения Австрии к нацистскому рейху Общество Роберта Музиля распалось, жертвователи были евреи, им пришлось бежать из страны. Да и сам Музиль женат на еврейке.
Супруги едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются — но не домой, а в Цюрих; это уже эмиграция. Оттуда Роберт и Марта Музиль перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаже на rue de Lausanne; вещи, книги — все осталось в Вене, дом погибнет в конце войны, когда Музиля уже не будет в живых. Ему остается жить 2 года 10 месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с романом-Минотавром, грандиозным замыслом, который давно уже существует сам по себе и диктует автору свои условия; исход единоборства — ничья.
“Вообразите, — пишет он пастору Лежёну, — буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащенной грозным вооружением, от которого остались только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то, и люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах…” Музиль живет уединенно, не подписывает никаких заявлений и открытых писем, не участвует в манифестациях и не посещает собраний; пожалуй, единственное исключение — упомянутый выше конгресс в Париже.
Между тем начинается война, речи и конгрессы — все валится в тартарары, вся шумная деятельность предвоенных лет кажется абсолютно бесполезной; Германия и Советский Союз делят Польшу, Франция побеждена и выходит из игры, идет воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, вермахт вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Перл-Харбор. Музиль сидит над своим романом, действие которого происходит до Первой мировой войны в давно уже не существующем государстве. Кого может заинтересовать такая книга? Да и сам роман все больше становится проблематичным — призрачным, как река в пустыне. После того как Ровольт выпустил в 1930 году первый том, а в 1932-м — второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идет, и самое имя Музиля постепенно отодвигается в прошлое. “Разве он еще жив?” Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперед, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: автор считает, что все надо переписывать заново. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше себя самого, пытается вскарабкаться на его поверхность, мяч все раздувается; отдельные главы переписываются по десять и двадцать раз, вороха исписанной бумаги не помещаются на столе. К этому времени произведения Роберта Музиля уже запрещены на территории рейха, но и без этого он забыт, погребен под своим чудовищным произведением.
Гипотезы о том, почему не удавалось закончить “Человека без свойств”, сами по себе образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. После Музиля, этого “короля в бумажном царстве”, как назвал его Герман Брох, остался гигантский архив черновиков, вариантов, заметок, некоторые стоят целых трактатов. Лежа в саду, Ульрих и Агата ведут нескончаемые разговоры — и ничего не происходит. В декабре 1939 года Музиль прочел в газете отчет о гастролях танцевального ансамбля с острова Бали. Под стук барабана плясуны впадают в транс. Они испускают хриплые крики, взгляд застывает, нижняя часть тела сотрясается в конвульсиях. “Сходство с половым актом, — замечает Музиль, — выступает еще сильней, когда смотришь на выражение лиц… Транс принадлежит к области магии, магического воздействия на реальный мир. Коитус — то, что осталось у нас от транса. Понятно, что Агата и Ульрих не хотят соития…” Западный человек не может примириться с потерей сознательного контроля. “Иное Состояние” (der Andere Zustand), к которому стремятся брат и сестра, не допускает утраты собственного “я”. Снять извечное противоречие между рациональным и иррациональным! Личность не может быть принесена в жертву экстазу. Пускай же экстаз сольется с бодрствующим сознанием.
Что же совершается в конце концов? Совершается ли что-нибудь? По некоторым предположениям, любовники должны были укрыться на дальнем острове, чтобы там войти в Иное Состояние. Никаких следов реализации этого замысла в бумагах, оставшихся после Музиля, нет. Зато есть такая запись: “То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп — злое, страстное начало, начало вожделения — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчет состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, какой представлялась до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания”.
“Теория” — это система внутрироманных оценок, сложный комментарий к “происходящему”, внешне приписанный главному герою, но очевидным образом выходящий за его горизонт; ведь и сам он, в свою очередь, становится объектом рефлексии. Это и есть расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и не-персонаж, — еще немного, и он возьмет на себя функции всевидящего богоподобного автора-повествователя реалистической прозы XIX столетия. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того чтобы любить, страдать и вожделеть, он без конца рассуждает о страсти и вожделении. Одно из объяснений, почему роман не окончен, — крах эссеизма. Комментаторы говорят о крушении утопии, о неосуществимости Иного Состояния, однако я полагаю, что странная неудача несостоявшихся любовников — скорее следствие несостоятельности самой концепции повествования. Роман, как блуждающая река, затерялся в песках.
Но мы можем считать это и грандиозной победой. В романном пространстве все становится художеством. Герой и любит, и вожделеет, и рефлектирует. Или за него философствует сам автор; не важно. Важно то, что у автора рано или поздно возникает чувство, что роман сам диктует ему условия. Если есть ощущение, что автор, подобно своим героям, находится внутри романного пространства, значит, победило искусство. Если этого не произошло, роман разваливается. “Отнесись к теории реалистически (повествовательно)”. Это значит: не превращай ее в нечто произносимое извне, нечто самодовлеющее. Не используй роман как средство для деклараций или как выставку эрудиции. Не пытайся выдать свои размышления за безусловную истину, искусство — это истина, которая не знает о том, что она — истина. Не поучай читателя. “Теория” (видимый эссеистический компонент или скорее налёт эссеистики), заруби себе на носу, — это тоже “жизнь”; это часть повествования. Это тоже художество. Всего лишь художество: не больше и не меньше. Это тоже “искусство для искусства”, потому что искусство подчиняет себе все — или уходит.
Все в жизни Человека без свойств остается возможностью, пробой, экспериментом, в том числе самый грандиозный опыт — попытка достичь экстаза, не покидая царство разума. Загадочное Иное Состояние, taghelle Mystik — мистика при свете дня, — слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в первобытно-варварском помрачении сознания и не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего ума. Другая душа — сестра-близнец Агата, с которой Ульрих, оставив гротескную общественную деятельность, встречается в доме почившего отца, после того как много лет брат и сестра ничего не знали друг о друге. Но то, что назревает, — инцест, — так и не происходит или, лучше сказать, растворяется в бесконечном незавершенном сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня: Atemztge eines Sommertags. Над этой главой — “Вздохи летнего дня” — писатель сидел с утра 15 апреля 1942 года, в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведенной по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов — вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер.
Одна из глав (45) второго тома начинается с сообщения о том, что “невозможное”, почти физически обвевавшее Ульриха и Агату, повторилось, und es geschah wahrlich, ohne da irgendlei geschah. “И воистину это случилось, хотя не случилось ничего”.