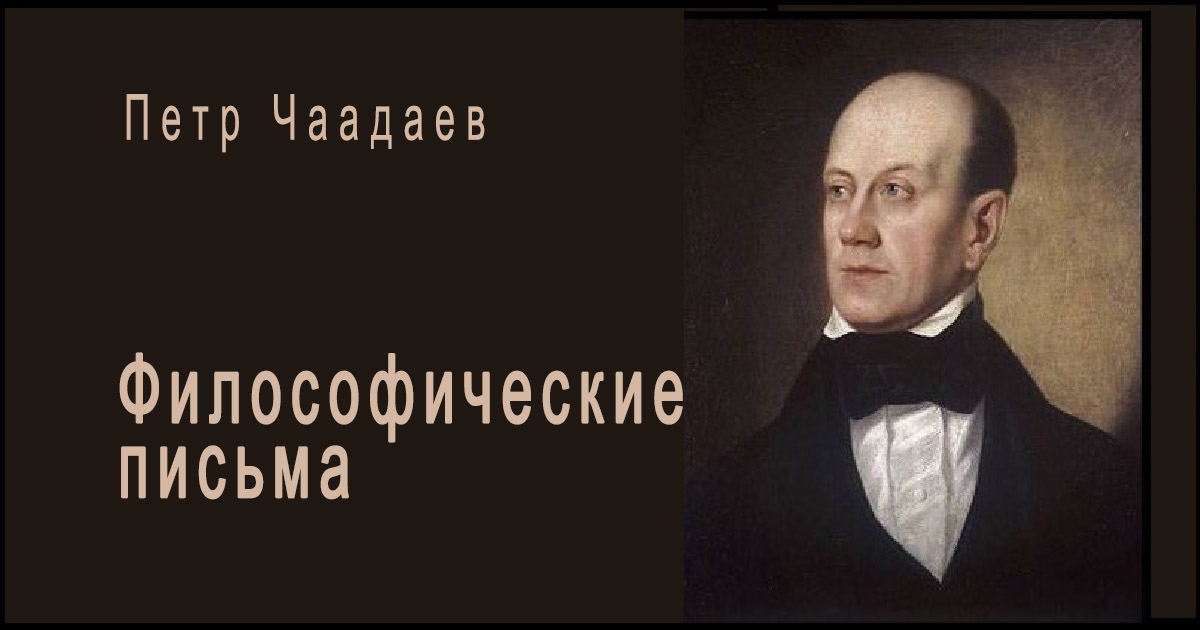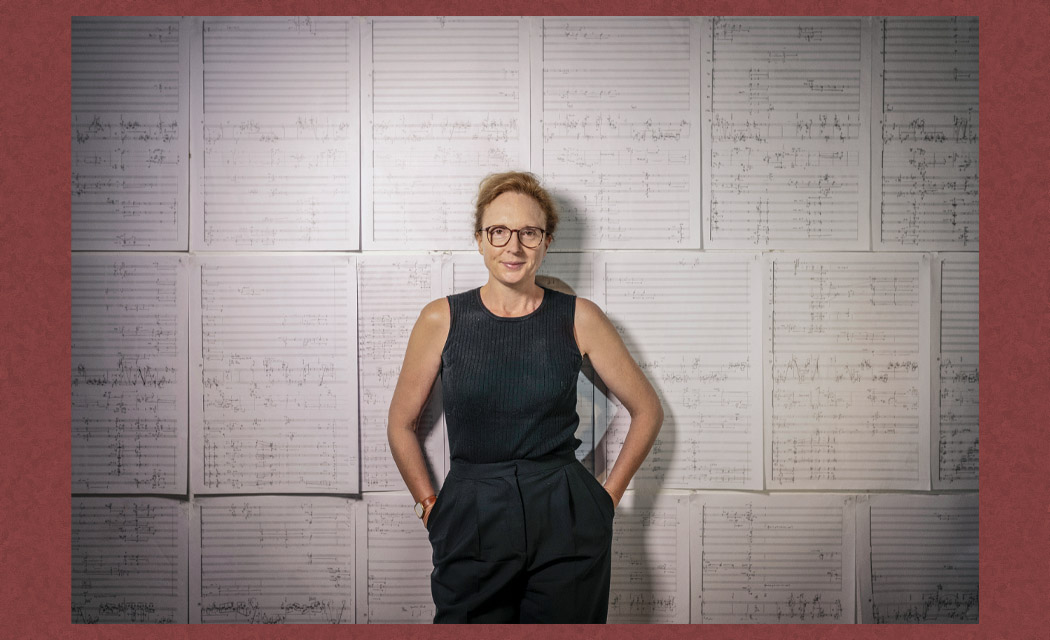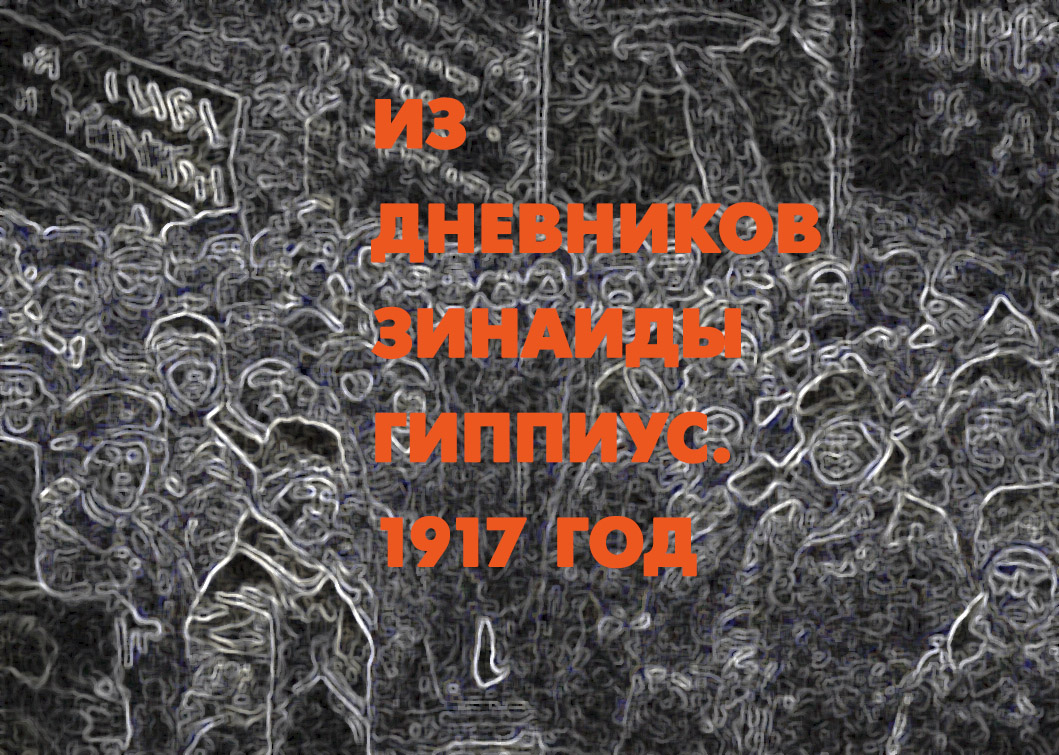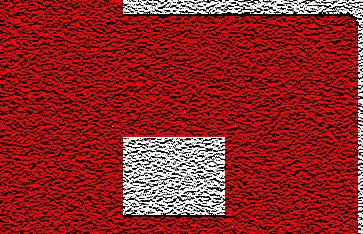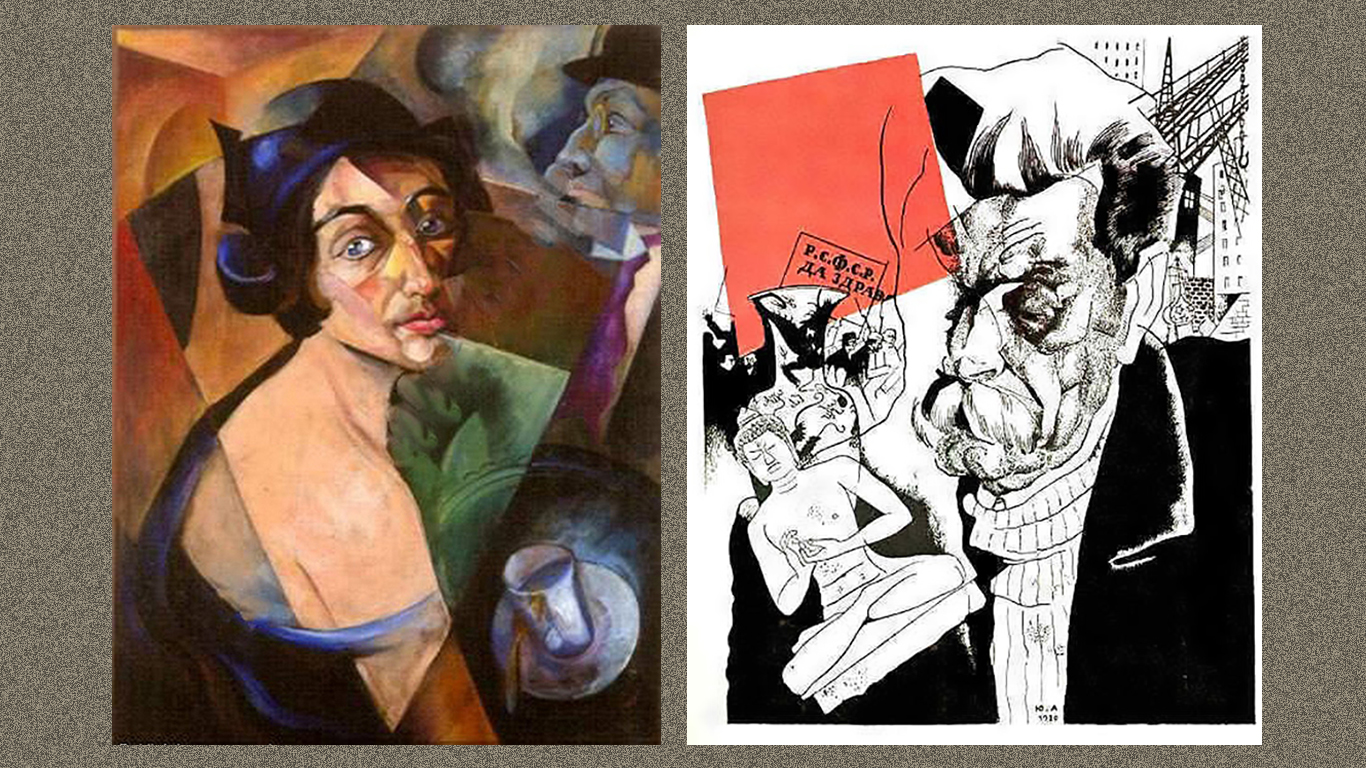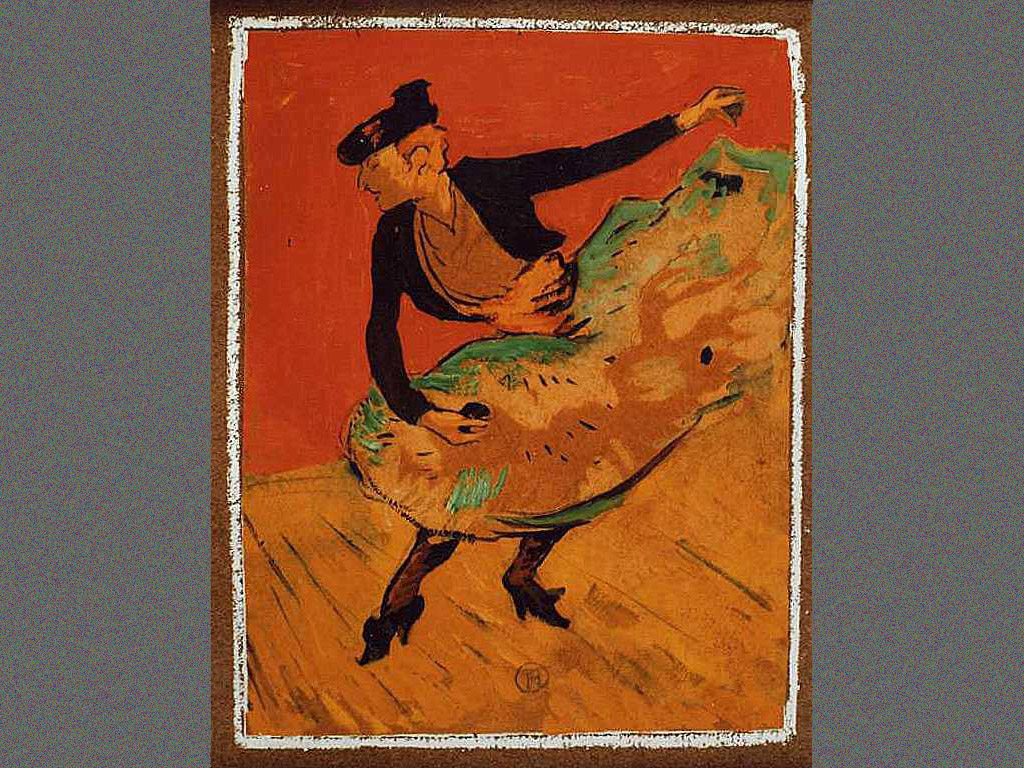Юрий Домбровский: арест в Мертвом переулке
Дуардович Игорь
Литературный критик, литературовед, журналист. Работает директором журнала «Вопросы литературы». Сфера интересов: русская литература ХХ и ХХI веков (Юрий Домбровский), современная русская поэзия, критика и психология искусства.
Аннотация
Вторая публикация из цикла статей, реконструирующих биографию писателя Юрия Домбровского. На самом широком материале, от воспоминаний и редких документов ОГПУ до художественной прозы, рассказывается о том, как начиналась сталинская одиссея Домбровского. Впервые полностью печатаются и комментируются материалы первого уголовного дела (1932), ранее не доступные и хранившиеся в Центральном архиве ФСБ, и разбираются версии первого ареста.
У Домбровского было два двойника. Об одном из них, назовем его белым, о двойнике-мифе, «сражавшемся» с гэбэшниками, я уже рассказал в предыдущей статье [Дуардович 2019]. Второй двойник был черный и страшный, сам Домбровский писал о нем: «И вот по материалам «Дела» об этом Домбровском — контрреволюционере, умелом и ловком враге — и решается судьба настоящего живого Домбровского, который даже и точного понятия не имеет о том, как выглядит его страшный двойник» [Домбровский 1997: 160].
Этот двойник начал свою жизнь и свое черное дело в 1932 году, когда 23-летнего Домбровского впервые арестовали и сослали в Казахстан. В дальнейшем он еще не раз настигал писателя и даже хотел убить, — Домбровского арестовывали еще трижды, отбывал он сроки на Колыме и в Сибири. В тюрьмах, лагерях и ссылках он провел в общей сложности более 20 лет. И по сей день это часть биографии, о которой наравне с детством мы знаем хуже всего.
Страшный двойник в итоге переживет писателя. Домбровского окончательно реабилитируют лишь в 1991 году, а не во время оттепели, как считалось до сих пор. Все это выяснилось совсем недавно, когда мною были открыты материалы первого уголовного дела писателя, точнее, еще не писателя — и «Факультет ненужных вещей», и «Хранитель древностей», ставшие классикой, в будущем. Сейчас же перед следователем 23-летний студент, ставший, судя по всему, жертвой доносчика.
В прошлом году исполнилось 40 лет со дня смерти Домбровского, однако его биография по-прежнему остается малоизученной. Например, от друзей и родственников писателя до нас дошли совершенно разные версии его первого ареста, причем все они принадлежат самому Юрию Осиповичу.
Одна история выглядит словно байка, анекдот. Мы знаем ее от Далилы Портновой, племянницы. В 2017 году она опубликовала в «Новом мире» свои воспоминания.
Это был 1932 год. Портнова, однако, пишет о «праздничном октябрьском дне 1933 года» [Портнова 2017: 101]. Но Домбровский в то время уже давно находился в ссылке в Алма-Ате. К тому же в «Деле» говорится о «майских днях», когда было совершено одно из преступлений, то есть речь о Первомае, а не о празднике Октября.
Когда-то давно я спросила Гурина (прозвище Домбровского, данное племянниками. — И. Д.):
— А за что тебя арестовали в первый раз?
— Дело было так, — сказал он, слегка сощурив глаза, видимо, чтобы окунуться в воспоминания того праздничного октябрьского дня 1933 года. — Был солнечный теплый день. Вся Москва была украшена лозунгами, транспарантами, красными флагами. На каждом доме красовался кумачовый стяг. Мы с друзьями — веселые, молодые, знаешь, такие, которым «море по колено», шли мимо знакомого дома по знакомой улице. В этом доме жила девушка, которая изменила одному нашему общему другу. На ее доме тоже развевался флаг. Под азартные, залихватские выкрики, что этот дом не достоин того, чтобы на нем красовался флаг, решили его сдернуть. Дело-то не хитрое. Я, как самый длинный, вырвал флаг из флагштока. Вот тут-то меня и задержали.
Было так — не было, ручаться не могу. Но эту историю мне поведал сам развеселившийся Гурин, в красках и в прихлопах по коленкам [Портнова 2017: 101].
Вторая версия не столь авантюрна и кажется более правдоподобной. О ней в своей статье рассказал один из друзей писателя, Валентин Непомнящий.
Был человек, который на службе то ли подлог совершил, то ли растратил казённые деньги, — вопрос записали в повестку профсоюзного собрания и стали на нем вора прорабатывать. Время было уже такое, что обычное уголовное обвинение довольно быстро стало превращаться в политическое, и Домбровский почувствовал это <…> тут же поднялся и сказал: братцы, что же это, мол, происходит, куда вы тянете, жулик-то он жулик, но зачем же из него делать врага народа, не губите человека! Люди и в самом деле опомнились <…> и спасённый чуть ли не со слезами благодарил своего спасителя. Вот он-то через некоторое время и посадил Домбровского — добровольно или из-под нажима <…> Такой оборот дела был для него ударом не меньшим, чем сама посадка. Во всяком случае, все время, что он сидел, его это обстоятельство мучило, и порой, признавался он, ему казалось, что он должен выжить и освободиться только для того, чтобы найти и уничтожить иуду — или, по крайней мере, крепко набить морду [Непомнящий 1991: 8].
Как было на самом деле, мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем. Конечно, ответ можно искать в романах — в них, и главным образом в «Факультете», немало эпизодов, относящихся как раз к первому аресту. Сам Домбровский называл «Факультет» не просто человеческим документом, но и материалом истории. В послесловии «К историку» он писал: «Прочитав книгу, они (историки, прокуроры, следователи. — И. Д.), вероятно, потянутся к моим делам, а их по числу посадок четыре, и посмотрят, насколько я злостно уклонился от действительности истины. Смотрите, граждане, и оценивайте. Я даже фамилии оставил подлинными <…> Так что все описанное было».
Ожидания писателя, однако, не оправдались — за прошедшие сорок лет были раскрыты и опубликованы материалы только последнего дела — 1949 года . И вот сегодня мы обогатились еще одним — первым делом. В течение нескольких месяцев я посылал запросы во множество архивов — приходили ответы: ничего не знаем, ничего не храним, ничем не можем помочь, как вдруг конверт из ФСБ: «Сообщаем, что в Центральном архиве ФСБ России хранится архивное уголовное дело № Р41171 в отношении Домбровского Юрия Иосифовича (Осиповича)».
Дело оказалось небольшое, всего на 20 листах, и впервые оно публикуется полностью.
За Домбровским пришли 20 сентября 1932 года — это был чекист по фамилии Шугаев, комиссар. Первый лист (маленькая бумажка, похожая на квиток или рецепт врача, заполненная от руки) — это ордер, выписанный тогда же, 20 сентября: «…выдан сотруднику оперативного отдела ОГПУ Шугаеву. Адрес задержания: Мёртвый пер., д. 14, к. 5» (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — И. Д.). И вот первое, что не подтвердилось в историях Домбровского, — его арестовали по адресу, а не прямо на месте преступления, как в эпизоде с флагом.
Мёртвый переулок сегодня называется Пречистенским, это рядом с Арбатом, а дом № 14 известен как «Дом Гельриха» — бывший доходный дом 1912 года постройки, а ныне элитный особняк с подземным паркингом и пентхаусом. Но в 1932 году этот буржуазный монстр был просто коммуналкой. Вместе со своей матерью, отчимом, младшей сестрой и старушкой-няней Домбровский жил в квартире № 5. Семья занимала две комнаты. Это была интеллигентская семья: мать — учительница, отчим — профессор университета (родной отец — известный московский адвокат, умер в 1920 году ).
На развороте дела № Р41171 первые тюремные фото анфас и в профиль. На фото анфас подписано 21 сентября: детские глаза, вихры волос, нависающие над широким лбом… За время репрессий Домбровский растеряет все зубы и будет потом смешить детей, сворачивая губы куриной гузкой [Портнова 2017: 113], однако эти детские глаза, как у Юрия Деточкина в «Берегись автомобиля» или у Роберто Бениньи в «Жизнь прекрасна», не потускнеют и не озлобятся. И эти вихры на голове, не редея и не седея, черные, как вороново крыло, останутся у него до самой смерти. Наконец, безвольный, скошенный подбородок, клином выдающийся прямой нос, губы как будто бы немного поджаты, а в глазах, как кажется, непротивление и надежда. В. Непомнящий, создавая словесный портрет писателя в поздние годы, отметит гордую посадку головы и назовет его красивым и значительным, как состарившийся и трепанный в битвах орел.
Первые три листа дела, включая ордер, содержат только общие сведения — это обычные процедурные бумаги. После ордера читаю протокол обыска, в котором список конфискованных вещей: удостоверение с места службы, билет в читальный зал, два пропуска НКО (военный билет. — И. Д.), один самого Домбровского, а другой на имя некоего Сырова, личная переписка на 16 листах, папка с рукописями [Первое… 1932: л. 2] . Последние две вещи в списке, личная переписка и папка с рукописями, могли бы представлять интерес, если бы сохранились, — в первую очередь рукописи (скорее всего, стихи, так как Домбровский начинал как поэт).
На третьем листе анкета — социальное положение, национальность, образование и т. д., перечислю в столбик:
служащий
мать русская, отец еврей
семилетка + корректорские курсы + ВГЛК
беспартийный
корректор
рядовой
не служил
не жил за границей
не привлекался.
На анкете, как и на ордере, стоит то же число — 20 сентября, но в протоколе обыска поставлено 21-е. 21-го же Домбровского сфотографировали, а затем был первый допрос. Скорее всего, в соответствии с тогдашней процессуальной практикой, арест проводился поздним вечером, а обыск был либо ночью, либо на следующий день. Думаю, чекисты и не собирались искать ничего конкретного; как писала Надежда Мандельштам, был бы человек, а дело найдется… [Мандельштам 1999: 96] Обыском занимался все тот же Шугаев, а понятым указан некто Трубихин Ф. И.
Переворачиваю анкету и вижу машинописное постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения:
4 октября 1932 года
Гор. Москва, 1932 года октября 3 дня, Я Уполномоченный СПО ОГПУ ВЕПРИНЦЕВ, рассмотрев следственный материал по делу № 235 и приняв во внимание, что гр. Домбровский Юрий Иосифович достаточно изобличается в том, что занимался агитацией, направленной к ослаблению Советской власти и совершал хулиганские поступки, отличающиеся исключительным цинизмом,
постановил:
Гр. Домбровского Ю. И. привлечь в качестве обвиняемого по ст.ст. 58–10 и 74 УК мерой пресечения способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей.
Уполномоченный 4 СПО Вепринцев
Согласен пом. нач. IV СПО Петровский (л. 4)
Статья 58 пункт 10 — пропаганда и агитация, по ней же Домбровский будет арестовываться и в дальнейшем (еще трижды), а 74-я — хулиганство. Что же такого натворил студент, чтобы стать «политическим», как называли приговоренных по 58-й? «Политики боюсь. Не мое она дело. Все это я изложил следователю <…> он мне ответил: «Не подпишешь добром, подпишешь под кулаком. Понятно?» Как не понять?» («Факультет»). Быть может, это все-таки история с флагом? Нужно подчеркнуть — Домбровского арестовывали совсем не как писателя, в отличие, скажем, от Мандельштама или от его собственных последующих арестов; грубо говоря, это был еще не тот Домбровский. И разве что затем в «Деле» из простого распространителя антисоветских слухов он превратится в автора политических анекдотов и организатора контрреволюционной группы литераторов.
Есть, однако, любопытное воспоминание поэта Семена Липкина, относящееся как раз к тому времени:
Это был 1930-й или 31-й год. При газете «Московская правда» был организован кружок, где я подрабатывал, консультируя и отвечая начинающим поэтам. В здании «Московской правды» собирались поэты.
Как-то на очередное заседание пришел молодой человек, очень высокий, с длинными руками, небрежно одетый, с лохматой головой — Юра Домбровский.
Прочел свои стихи. Он ведь начинал как поэт. Стихи были довольно смелыми, по тому времени почти антисоветскими. Когда мы расходились, я сказал ему что-то похожее на «Зачем? — Опасно!» [Липкин 2005: 221].
В «Факультете» главный герой Зыбин, уже оказавшись в тюрьме, вспоминает студенческие годы, и очевидно, что это студенческие годы самого Домбровского:
Имел товарищей, писал стихи, конечно, очень плохие стихи, сначала под Есенина, потом под Антокольского, я любил все гремучее, высокое, постоянно сгорал от любви к какой-нибудь однокурснице. Тогда я поступил на литфак, как-то очень легко сдал все экзамены и поступил. Надеялся, что буду стипендию получать. Нет, не дали. Я ж из состоятельной семьи: отчим — профессор, мать — доцент.
И все-таки никаких антисоветских стихов и прочих «вражеских» текстов (кроме несуществующих анекдотов, которые появятся дальше), несмотря на наличествующие в списке конфискованного личную переписку и папку с рукописями, в деле не фигурирует. Вопрос, как на самом деле засветился — попался в поле зрения чекистов — Домбровский-студент? («Набрался, сопляк, и начинает выяснять свои отношения с Советской властью» — «Факультет».) Критик и публицист Марлен Кораллов, также побывавший сталинским зэком, в воспоминаниях напишет: «Так в чем состоял криминал Домбровского? Глупый вопрос. Вёл же он «планомерную диверсионную работу», устраивал пьянки, во время которых антисоветчина переливалась через край. Вёл. Конечно, вёл» [Кораллов 2005: 189], — однако здесь речь, скорее всего, уже об отсидевшем Домбровском, бывалом зэке, о Домбровском последующих двух-трех арестов, Сибири и Колымы. О молодом же студенте нам приблизительно известно то, что он был поэт-бунтарь, чудаковатый эрудит, бродяга и просто компанейский парень.
В романе «Хранитель древностей» Зыбина во время одного скандала спрашивают о его коллеге: «Вы имели сведения, что Корнилов отбывал ссылку? <…> Как? За что? Когда?» Зыбин рассказывает, что знает об этом только примерно: «Обыкновенный студенческий скандал, он и попал как-то боком. Просто пристал к пьяной компании».
Оба персонажа, Зыбин и Корнилов, — братья по судьбе и в то же время очевидные двойники самого автора — между ними он разделил свою биографию. Корнилов — ученый и археолог, его, как и Домбровского, высылают из Москвы в Алма-Ату. Зыбин — историк и тоже археолог, работающий, как и Домбровский, когда его отправили в ссылку в Казахстан, в Центральном музее Алма-Аты, размещавшемся тогда (в 1930-е) в бывшем Вознесенском кафедральном соборе. Наконец, Корнилов по сюжету также устраивается работать в этот музей.
В «Факультете» Корнилов уже рассказывает историю своего первого ареста сам, и в этой истории есть сдёрнутый флаг:
Ты знаешь, сколько я тогда наплёл на себя? <…> Да все, что он (следователь. — И. Д.) мне подсунул, то я и подмахнул <…> Все нераскрытые паскудства, что накопились за лето в нашем районе, он все их на меня списал. Где какой пьяный ни начудил, все это я сделал. И все не просто, а с целью агитации. И флаг я сдёрнул, и рога какому-то там пририсовал, и витрину ударников разбил, все я, я, я!
А что же вторая версия — которая с жуликом? Как ни странно, ее мы также находим в прозе, все в том же «Факультете», только на этот раз это история самого Зыбина, который, оказывается, еще будучи студентом, тоже попал к чекистам, однако тогда его — в отличие от Домбровского-студента — отпустили:
Следствием установлено, что, еще будучи студентом такого-то института, Зыбин Гэ Эн, пытаясь выручить своих собутыльников, арестованных за бандитизм, сорвал студенческое собрание, посвященное обсуждению и заклеймению их преступной деятельности. Арестованный и допрошенный тогда же органами ГПУ, он дал уличающие себя показания, однако следствие, стремясь быть к нему максимально объективным, в то время не нашло нужным привлекать его к уголовной ответственности.
В романе версия о жулике, рассказанная Непомнящему, превращается в групповое изнасилование студентки Кравцовой. На собрании требуют расстрела всех обвиняемых, и тут Зыбин так же, как и Домбровский у Непомнящего, встает и «просто излагает свое мнение». После Зыбина «выступило еще несколько человек, и собрание <в итоге> не стало голосовать».
И еще момент из «Факультета», когда следователь и начальник Второго СПО Нейман обсуждает Зыбина с начальником отдела Гуляевым. Речь все о том же старом деле с изнасилованием студентки: «Он вообще тут с боку припека: заступился за товарища (выделено мной. — И. Д.), и все. Его тогда же отпустили». Нейман стремится раздуть громкий показательный процесс по образцу московских, с разоблачением целой группы врагов:
…я думаю, что именно с этого началась его карьера. Было собрание, выступил Зыбин и весьма квалифицированно сумел повести за собой весь коллектив. В результате полетела резолюция, подготовленная райкомом партии. Я думаю, что это все совсем не случайно. Тут работала целая группа. Один выступал, другие поддерживали.
Однако вернемся к настоящему уголовному делу. Следующая страница после постановления о мере пресечения от 4 октября восстанавливает хронологию и возвращает нас обратно, на две недели назад, — это текст первого допроса. Каждый допрос, а также свидетельские показания дублируются — написаны от руки и тут же набраны на машинке.
21 сентября 1932 года
На предложенные ему по существу дела вопросы гр-н Домбровский ответил:
Признаю себя виновным в том, что я распространял слухи об ОГПУ, политически дискредитирующие его как орган защиты диктатуры пролетариата. Между тем, как моим гражданским делом было немедленно сообщить в ОГПУ об источниках этих слухов с тем, чтобы были приняты меры предотвращения распространения этих слухов.
Записано с моих слов верно и мною прочитано: Ю.Домбровский
<подпись Домбровского>
Допросил: Шиваров (л. 5–6)
Свои впечатления от первого допроса писатель вкладывает в уста Корнилова:
После очень корректного и неторопливого анкетного разговора следователь <…> сказал: «А теперь назовите всех ваших знакомых» <…> назвал сослуживцев — это легче легкого, потом соседей, тоже несложно, а потом дошло до товарищей по учебе — тут уж я стал думать <…> Затем женщины — с ними уж совсем морока.
<…>
И сейчас же пошли бы вопросы — где познакомились? Часто ли встречались? Где? Когда? <…> А потом вызовут ее, да и покажут ваши показания. И не полностью, конечно, а строчек с десять, там, где про ресторан. Вот и все! И девчонка уж на хорошем крючке! <…> Вот тут я и взвыл. От нелепости, от беспомощности, от того, что не поймешь, что же отвечать! Ох, этот первый допрос! Он мне вот как запомнился! <…> совершенно тихий допрос — вот он мне запал на всю жизнь («Факультет»).
На другой день и на втором допросе появляется конкретика («Потом все много легче пошло — появилась конкретность» — «Факультет»), и дело начинает обрастать какими-то внятными, хотя порой невообразимыми подробностями. Тут уже не только слухи об ОГПУ, тут возникает Сталин, а за ним наконец выстреливает этот самый флаг, как на параде, и даже не один — пишут «флаги». По поводу флагов сразу замечу, что место преступления не указывается — нет ни улицы, ни дома, хотя в истории Домбровского, рассказанной племяннице, речь шла о конкретном адресе: «В этом доме жила девушка, которая изменила одному нашему общему другу» [Портнова 2017: 101].
22 сентября 1932 года
На заданные по существу дела вопросы гр. Домбровский Ю. И. ответил:
Признаю себя виновным в том, что я рассказывал злостные вымыслы в отношении И. В. Сталина, преследующие цели дискредитировать его как вождя партии.
Признаю также, что срыв флагов, вывешенных в майские дни на домах, являлся формой политической и именно антисоветcкой демонстрации. В срыве флагов вместе со мной участвовал и мой друг Ю. Ульянов. Инициатива этой демонстрации принадлежала Ульянову.
Записано с моих слов верно и мною прочитано:
Ю. Домбровский
<подпись Домбровского>
Допросил: Шиваров (л. 7–8)
Домбровский показывает на своего друга Ульянова. Кто-то, наверное, скажет: «Заложил!» — однако нам ли судить из своего далека? Осип Мандельштам, рассказывала Н. Мандельштам, часто говорил: «Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх — перед самим бытием» [Мандельштам 1999: 101]. И все-таки ужас подобных документов в том, что от них, от той эпохи, нас отделяет не так много времени, как кажется.
Интересные личности скрываются за чекистскими фамилиями: Вепринцев и Шиваров. Как оказалось, они засветились в самых разных «литературных» делах. Тандем Вепринцев — Шиваров встречается, например, в деле того же Мандельштама, которого впервые арестовывают за «Эпиграмму» в 1934-м, спустя два года после Домбровского.
Юрий Осипович Домбровский
"ЧЕКИСТ"
Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной.
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом
Я знал врача, он был архиерей;
Я боксом занимался с езуитом,
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.
Была в меня когда-то влюблена
Красавица - лишь на обертке мыла
Живут такие девушки, - она
Любовника в кровати задушила
Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать - он был чекистом.
1949