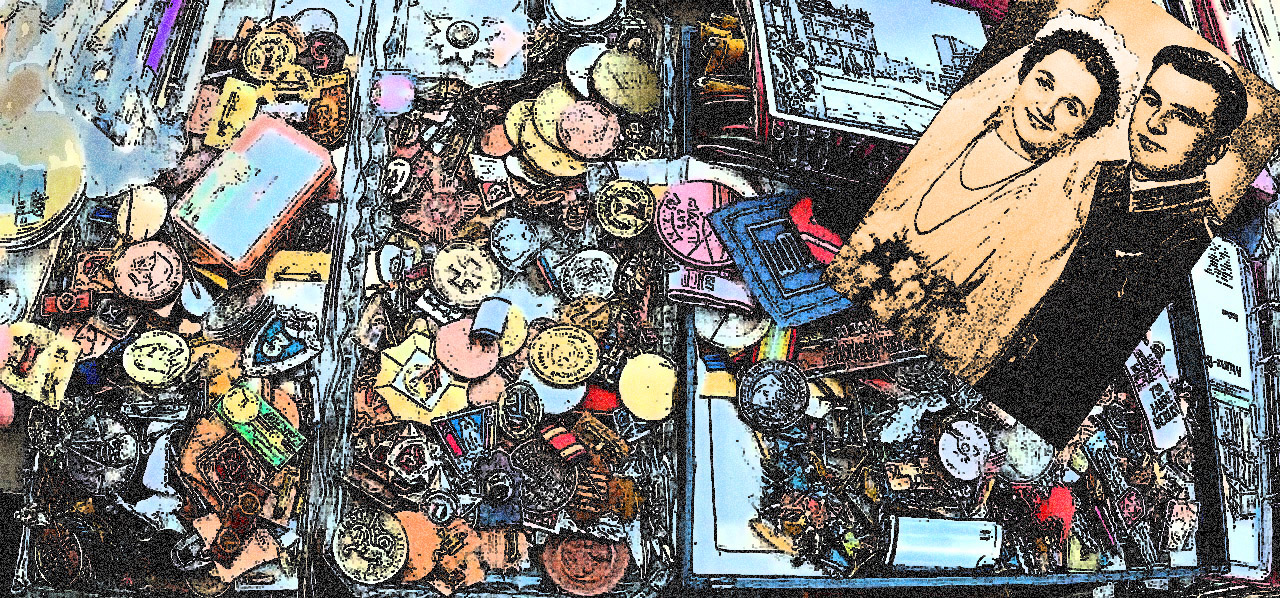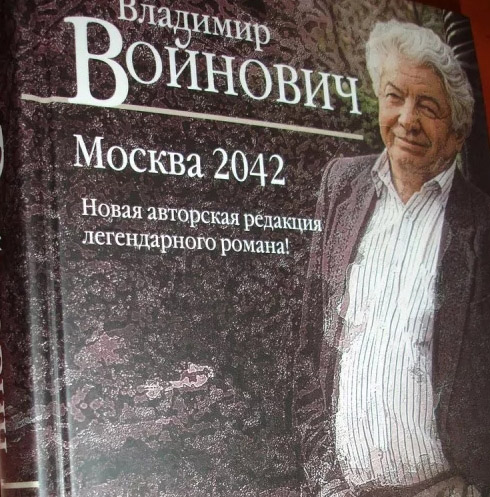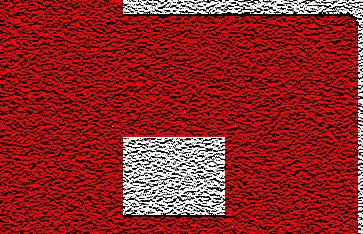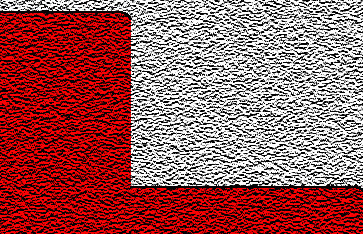Марио ВАРГАС ЛЬОСА
ВЛАСТЬ ВЫМЫСЛА
Мир не таков, каким мы его видим, а таков, каким мы его вспоминаем», — писал Валье-Инклан. Конечно, имеется в виду восприятие мира в художественной литературе, ирреальности, в которой убедительность хорошего писателя и доверчивость хорошего читателя создают вымышленную реальность.
Почти для всех писателей память — это начало дороги к фантастическому, трамплин, с которого воображение отправляется в свой непредсказуемый полет к выдуманному. Воспоминания и вымысел в художественной литературе сплетаются зачастую в клубок, запутанный для самого автора, а тот, хотя и старается отстаивать иную позицию, понимает, что восстановление утраченного времени, то, чем занимается литература, — это только видимость, фикция, где воспоминание неотделимо от воображаемого, и наоборот.
Поэтому литература, как правило, — царство амбивалентности. Ее истины — всегда субъективны, относительны, истины наполовину, это истины, которые нередко строятся на вдохновенных ошибках и историческом обмане. Хотя кинематографическая битва при Ватерлоо в «Отверженных» нас восхищает, мы знаем: это — та баталия, которую развязал и выиграл Виктор Гюго, а не та, которую проиграл Наполеон. Или — если вспомнить валенсианскую книгу, поскольку находимся мы сейчас в Валенсии, — описание в «Тиранте Белом» завоевания Англии арабами — целиком и полностью убедительно, и никто не отважится отказать этому описанию в убедительности под тем ничтожным предлогом, что, мол, в действительности ни один отряд арабов никогда не пересекал Ла-Манш.
 Переделка прошлого, то, чем и занимается литература, почти всегда является обманом, если подходить к ней с мерками исторической объективности. Одно дело — истина литературная, иное — истина историческая. Но хотя беллетристические произведения переполнены вымыслом — или, вернее, благодаря этому, — литература показывает нам ту историю, какую исторические труды историков не знают или не могут показать. Ибо литература не выдумывает просто так. Ее обманы, мистификации, преувеличения служат тому, чтобы глубже и вдохновеннее выразить истину, которая только таким странным образом может стать явной.
Переделка прошлого, то, чем и занимается литература, почти всегда является обманом, если подходить к ней с мерками исторической объективности. Одно дело — истина литературная, иное — истина историческая. Но хотя беллетристические произведения переполнены вымыслом — или, вернее, благодаря этому, — литература показывает нам ту историю, какую исторические труды историков не знают или не могут показать. Ибо литература не выдумывает просто так. Ее обманы, мистификации, преувеличения служат тому, чтобы глубже и вдохновеннее выразить истину, которая только таким странным образом может стать явной.
Когда Джоанот Марторель в «Тиранте Белом» говорит: принцесса Кармезина была настолько белокожей, что было видно, как по ее гортани течёт вино, — он рассказывает нам о том, чего просто-напросто не может быть, и, однако, нам, попавшим под очарование книги, кажется это подлинной правдой, поскольку в вымышленной реальности романа, в отличие от того, что происходит в нашей обычной реальности, преувеличения — всегда правило, и никогда не исключение. И ничто не будет преувеличением в этой реальности. В «Тиранте» таковы и фантастические сражения, и ритуальные действа, и подвиги героя, что в одиночку обращает в бегство войска и истребляет буквально половину христиан и всех мусульман. Таковы и курьёзные эпизоды — например, когда наш герой, набожный и сладострастный, целует женщин в рот по три раза в честь Святой Троицы. Все в романе всегда преувеличено — и сама война, и любовь, которая, как правило, приводит к невероятным последствиям. Когда Тирант впервые, в полумраке, видит округлые груди принцессы Кармезины, — он впадает в состояние, близкое к каталепсии, и несколько дней, совершенно разбитый, вынужден провести в постели — не может ни спать, ни есть, не может произнести ни слова. А когда он, в конце концов, поправляется, то словно бы заново учится говорить. И первые слова, что он пролепетал, были: «Я люблю...»
Все эти вымыслы показывают нам валенсианцев конца XV столетия не такими, какими они были в действительности, но такими, какими они хотели быть и что хотели свершить; они рисуют не людей во плоти, живших в то тяжкое время, а их фантомы. Эти вымыслы делают реальными их стремления, их страх, желания, ненависть. В искусном вымысле обретает плоть субъективность эпохи, и поэтому романы, хотя они, если сопоставить их с исторической действительностью, и полны вымысла, показывают нам истины, неуловимые и таинственные, те истины, что, никогда не попадают в документально подтверждённые исторические рассказы. Только литература обладает возможностью и властью сотворить этот великолепный эликсир жизни: истину, сокрытую в вымысле человеческом.
Итак, в литературном обмане нет никакого обмана. По крайней мере, его не должно быть, если не принимать во внимание тех, кто считает, что литература должна быть объективно верным отображением действительности и что она столь же зависит от реальности, сколь и история. В литературе нет никакого обмана, потому что, читая фантастическое произведение, погружаясь в него, мы отлично понимаем, что наше волнение или наша скука будут целиком и полностью зависеть только от того, сумел или нет околдовать нас рассказчик, заставил он нас или нет переживать его вымыслы, как подлинную правду, а вовсе не от того, сколь добросовестно он воспроизвёл реальную жизнь.
Эти чётко очерченные границы между литературой и историей — между литературной и исторической истинами — являются прерогативой открытого общества. В нем сосуществуют обе эти истины, независимые и суверенные, хотя и дополняющие одна другую, дополняющие с недостижимой целью: описать всю жизнь. И возможно, главным критерием открытости общества — если воспользоваться определением Карла Поппера — будет: литература и история сосуществуют независимо друг от друга, не вторгаются в чуждые им владения и не узурпируют чужие им функции.
В закрытом обществе все — диаметрально по-иному. И, наверное, лучше всего можно охарактеризовать закрытое общество, если сказать: в нем вымысел и история означают одно и то же, прошлое изменяется и подделывается и в литературе, и в истории, словно на маскарадном балу.
В закрытом обществе власти не только оставляют за собой право контролировать действия людей — то, что его граждане делают и что они говорят; власти стремятся управлять вымыслами людей, их мечтами и, разумеется, их памятью. В закрытом обществе прошлое — это объект для манипуляций во имя того, чтобы узаконить происходящее в настоящем. Официальная история, единственно разрешённая в таком обществе, — это сценарий с поразительной правкой, то, чем прославились советские энциклопедии: в них исторические личности возникают из небытия или уходят в небытие в зависимости от благосклонности или немилости властей, и действия героев или антигероев прошлого — от издания к изданию — оцениваются совершенно по-разному, в зависимости от симпатий или антипатий правящих в настоящее время диктаторов. Подобная практика современными тоталитарными государствами доведена до совершенства, но восходит она ко времени зарождения существовавших ещё сравнительно недавно цивилизаций, которые были всегда и сверху донизу деспотическими.
Организовать коллективную память, превратить историю в инструмент правительства, поручающего своим рабам узаконить его и оправдать его злодеяния — это прирождённая тенденция любой власти.
Тоталитарные государства умеют превращать историю в реальность. И многие цивилизации прошлого осуществляли это на практике.
Например, мои древние земляки — инки. Они делали это по-театральному чрезвычайно убедительно. Когда умирал Верховный правитель, с ним вместе умирали не только его жены и наложницы, но и его мудрецы или, как их называли древние перуанцы, амауты.
Мудрость их заключалась, по преимуществу, в умении показывать фокусы: превращать вымысел в историю. Новый инка поднимался на вершину власти в окружении сладкоречивых мудрецов, чьей задачей было переделать коллективную память, исправить прошлое — можно сказать, модернизировать его — таким образом, что все подвиги, завоевания, величественные сооружения и так далее — все, что приписывалось прежнему правителю, переносилось теперь в жизнеописание нового инки. А его предшественники мало-помалу уходили в небытие. Верховные инки отлично знали, как прошлое может служить им, — превращая его в литературу, они умертвили настоящее; а ведь это является идеалом любой диктатуры. Они истребляли правду отдельного человека, ту правду, которая противоречит официальной точке зрения на истину, единую и окончательную. (В результате, империя инков — это, общество без истории, по крайней мере, без истории в курьёзных рассказах, ибо никто ныне не может убедительно воссоздать прошлое инков, оно одевалось и раздевалось бесчисленное множество раз, подобно тому как делает это профессионалка в стриптизе).
В закрытом обществе история насквозь пропитывается вымыслом, становится вымыслом, ибо вновь и вновь придумывается в зависимости от требований религиозных ортодоксов или современных политиков или, более откровенно, от капризов нынешнего властителя.
В то же время создаётся система строжайшей цензуры и создаётся таким образом, чтобы литература тоже шла в строго прочерченном русле, чтобы ее субъективные истины не противоречили официальной истории, не бросали на неё тень, но, наоборот, как можно лучше ее популяризировали и иллюстрировали. Различие между истиной исторической и истиной литературной исчезает, появляется гибрид, который порождает ненастоящую историю и убивает сокровенный вымысел, изначально не соответствующий официальным установкам.
Повелеть истории лгать, а литературе пропагандировать истину, удобную для властей, — такая позиция не способствует ни научному и техническому развитию страны, ни установлению социальной справедливости. Кажется, доказано, что империя инков — достигшая расцвета, небывалого для своего времени, да и для нашего тоже, — погибла от голода, уничтожив своих мудрецов. Современные тоталитарные государства сумели шагнуть вперёд в сфере образования, здравоохранения, спорта, производства, сделав все это доступным для большинства — сделав то, чего в открытом обществе, несмотря на намерения его граждан, не смогли добиться, так как цена свободы, которой они пользуются, оплачивается нередко неравенством от рождения или - что ещё хуже — личными амбициями.
Но когда государство, в своём стремлении контролировать и решать все, отнимает у человека право на его собственный вымысел и, как монополист, присваивает себе это право с помощью историков и цензоров — как это делали Верховные инки с помощью своих мудрецов, — то огромный мир человеческих чувств мертвеет. Мужчины и женщины в таком обществе, калеки, их существование обеднено, хотя их основные потребности и удовлетворены.
Ибо желания людей в реальной жизни никогда не были и не будут удовлетворены. Но не будь этой неудовлетворённости — а литература в людях её одновременно и увеличивает, и уменьшает, — жизнь никогда не могла бы развиваться.
Воображение, данное нам, — это дар демонов. Всегда существует пропасть между тем, кто мы есть, и тем, какими хотим быть, между тем, что у нас есть, и тем, что мы жаждем.
Но воображение для неизбежного разрыва между ограниченной реальностью и неограниченными желаниями создало хитроумный и дальновидный паллиатив: вымысел. Благодаря вымыслу мы, оставаясь теми же самыми, становимся иными, чем мы есть. Мы растворяемся в вымысле и обогащаемся, проживая несколько жизней, много больше, чем мощи бы прожить, если бы всегда были прикованы только к достоверной реальности в тюрьме истории.
Люди не живут только правдой, им необходим также и обман, им необходимо то, что они способны выдумать в условиях свободы, а не то, что им навязывают со стороны, то, что они сами представляют себе таким, каково это, по их мнению, и есть, а не то, что тайком взято у истории. Вымысел обогащает существование людей, расширяет границы их жизни, позволяет на время забыть трагические условия действительности: людям всегда необходимо желать и мечтать о том, чего в реальности невозможно достичь.
Когда в условиях свободы создаётся иная жизнь, где нет иных ограничений, чем те, которые ставит себе сам творец, тогда литература расширяет границы существования, образуя новое пространство для нашей сокровенной жизни: для той неощутимой и неуловимой, но дорогой нам жизни, которую только в вымысле мы и можем прожить.
И это наше право мы должны защищать без чувства какого-либо стыда.
Ибо игра в вымысел — так как играют автор фантастического произведения и его читатель — в вымысел, который они сами создают, находясь во власти своих собственных демонов, — это способ утвердить свой индивидуальный суверенитет и защитить его, если ему угрожает опасность; сохранить собственное свободное пространство, свою крепость без контроля властей и воздействия иных враждебных сил, дом, где мы воистину становимся вершителями своей судьбы.
Из этой свободы рождаются другие свободы. И наши собственные убеждения, субъективные истины литературы, сопоставляются с исторической истиной, у которой — свои законы, своя жизнь и свои функции: стать владельцем значительной части — но только части — нашей памяти, ибо мы в нашей обычной жизни должны вместе со всеми разделять величие и нищету своей истории. Историческая правда необходима нам и не заменима ничем, нам необходимо знать, какими мы были и, возможно, какими будем как человеческая общность. Но то, что мы собой представляем, как личности, и то, какими мы хотим быть и не смогли стать в реальности, — это умеет рассказать только литература; нам необходимо фантазировать и выдумывать, — это наша сокровенная история.
Поэтому ещё Бальзак писал: вымысел — «это частная история наций».
Вымысел, если он — единственное условие для существования человека, — тяжкое обвинение любому режиму или идеологии; страстное свидетельство их недостаточности, их неспособности дать полноценную жизнь. И, следовательно, такой вымысел — постоянное разрушение любой власти, которая хотела бы видеть людей покорными и довольными. Литературные вымыслы, если они рождаются в условиях свободы, доказывают нам, что люди такими не были никогда. Такой вымысел исподволь и постоянно убеждает в том, что так не должно быть в будущем.
Валенсия, 17 июня 1987 года