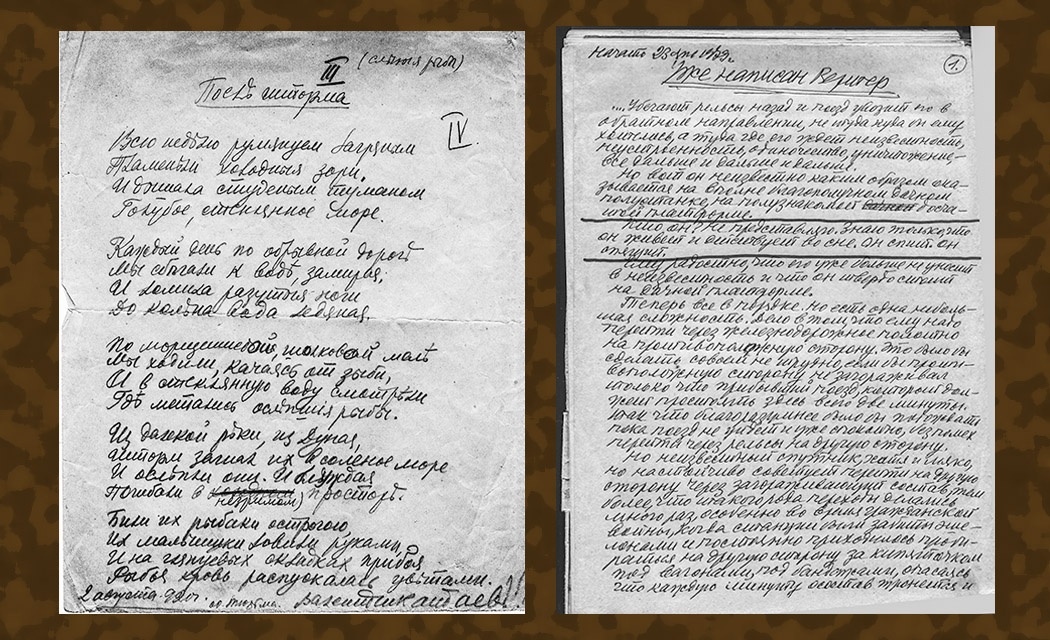«Воспоминания под гитару».
1
Родоначальник советской «гитарной поэзии» Булат Окуджава поёт в библиотеке Смитсониевского замка в Вашингтоне. По вертикали эта комната в три раза длиннее, чем по горизонтали, высоченный сводчатый потолок, стрельчатые окна – «замок» был задуман как имитация британской готики, но теперь уже и сам стал готикой, ему не менее ста пятидесяти лет. За спиной у певца бюст Вудро Вилсона, выполненный в чёрном камне. Сомневаюсь, что певец знает, чей это бюст. Я и сам долго не знал чей, хотя провёл в замке целый год, пиша роман «Бумажный пейзаж». Знал только, что это не Ленина бюст. По стенам библиотеки толстенные фолианты в кожаных переплётах, сомневаюсь, что ими кто-нибудь когда-нибудь пользуется. Внимание обычно сосредотачивается на стендах периодики; журналы всех стран и направлений, вплоть до румынской «Скынтейи».
Андрей Битов:
6 июля 2009 года «Ушел один из самых светлых людей поколения «оттепели», который всю жизнь это тепло «оттепели» пытался сохранить и приглашал за собой своих читателей».
Булата представляет аудитории профессор Джозефин Уолл, которую в вашингтонской общине «русистов» называют «Джози», молодая женщина, прекрасно говорящая по-русски. Здесь же присутствует профессор из Оберлина, штат Огайо, Владимир Фрумкин, бывший ленинградец, именно тот самый, что выпустил в Штатах уже два двуязычных сборника песен Окуджавы с нотами.
В одной из этих книг есть фотография 1969 года, снятая на борту теплохода «Грузия», стоявшего о ту пору в порту Ялты на фоне некогда шикарных витрин ялтинской набережной и невидных строений той поры, карабкающихся в горы, и далее – самих вечно восхитительных Крымских гор.
На верхней палубе сфотографировалась смешанная группа писателей и моряков – капитан Анатолий Гарагуля; старпом Анатолий Торский; поэт Константин Ваншенкин; его жена, прозаик Инна Гофф»; лётчик-испытатель Марк Галлай; автор романа «Дети Арбата» Анатолий Рыбаков (роман уже в то время был написан и прочитан друзьями автора) и мы с Булатом, мне тридцать шесть, ему сорок четыре, стоим, обнявшись, его лицо повёрнуто в профиль, во всём облике что-то лермонтовское.
Теплоход «Грузия» долгие годы был плавающим пристанищем литературы. С лёгкой руки своего флотского кореша, ренессансного Григория Поженяна, капитан Гарагуля стал чудным другом многих, как говорили тогда, «противоречивых», иными словами талантливых, писателей. Немало на борту этого судна произошло весёлых застолий, романтических встреч, немало, очевидно, и творческих замыслов было рождено. Всегда мы могли получить на «Грузии» каюту и пуститься в побег (пусть и фиктивный) от мерзких московских «кувшинных рыл».
Как-то раз в очередном побеге, в начале романа, мы оказались с Майей зимой в Сочи. Был день фантастической прозрачности, заполненный средиземноморским бризом, пустынные улицы, открытые и пустые рестораны (что тоже было на грани фантастики) и даже доступные гостиницы, что уже находится за гранью; иными словами – полное ощущение бегства из героической реалии. Весело спускаясь по сочинской улице, именуемой Горкой, мы говорили, что для полноты счастья не хватает только, чтобы в порту стояла «Грузия». Мы завернули за угол, вошли в платановую аллею и увидели ворота порта. За ними белой горой стояла «Грузия».
Обрывки этих и множества других воспоминаний, как светляки, кружились вокруг Окуджавы в готической библиотеке Международного центра Вудро Вилсона, когда он пел свою знаменитую «Песенку о Моцарте». Ведь это именно тогда, когда снята была фотография на борту «Грузии», восемнадцать лет назад, в мае 1969 года он первый раз публично исполнил эту песню. Произошло это на праздновании его собственного дня рождения девятого мая в ялтинском Доме творчества, псевдоампирном литфондовском хозяйстве, что развесило несколько своих террас над городом в парке с крутыми склонами, с ностальгически облупившимся фонтаном, в центре которого трогательно скособочился литературный амурчик, у которого были слегка повреждены как крылышко, так и пиписка, с кипарисовыми аллеями, где меж стволов, как было доподлинно известно, какое-то предыдущее поколение писателей закопало несколько бутылок первоклассного шампанского, и его можно легко обнаружить, разумеется, при наличии надёжного шампаноискателя.
Там были вокруг стола как представители моря, так и литературы: ренессансный о ту пору Поженян и готический Горчаков, представители драматургических племён Киргизии, классический Арбузов со своей дочерью княгиней Волконской, главный поэт и муза всего Закавказья Белла, три грека-контрабандиста и мой последователь Чехова и Элиота Славомир Волкович, лиса Алиса и кот Базилио и дегустатор массандровских подвалов Авессалом Фрамбуазович Шарафутдинов.
Как и сейчас, в Вилсоновской библиотеке, в том, не очень-то, как мы видим, едином по стилю обществе, Окуджава встал, поставил ногу на табуретку, укрепил на колене гитару, зарокотал и запел:
Моцарт на старенькой скрипке играет,
Моцарт играет, а скрипка поёт.
Моцарт отечества не выбирает –
просто играет всю жизнь напролёт.
Ах, ничего, что всегда, как известно,
наша судьба – то гульба, то пальба...
Не оставляйте стараний, маэстро,
не убирайте ладоней со лба.
Все обалдели. Все были тогда еще основательно молоды, даже Авессалом Фрамбуазович Шарафутдинов, не говоря уже о Белле и Славомире Волковиче. Булатовское пение, кружащееся над ночной Ялтой, присутствие Моцарта, вызвало по всей южноевропейской сфере России колебание романтических струн, напомнило нечто из еще ненаписанной тогда классики...
... «розовый хмель Мидеотеррано подобный пене острова Крит закручивал и наши шаги по чутким коридорам Ореанды и мы низвергались с мраморных лестниц и совершали пируэты на кафельных полах с сотнями писсуаров, протянувшихся вдоль неподвижного моря словно строй римских легионеров...
...хмель бешеным потоком заносил нас в подкову гавани Сплита на полированные булыжники Диоклетианова града в гости к нимфе Калипсо на ее древние и вечно желанные холмы в библейские долины и романские города под шелестящими лаврами...
...и мы метались на дне кипарисового колодца под чистым темно-зелёным небом между статуями корифеев средиземноморской цивилизации и захлёбывались в эту нашу быть может последнюю юную ночь...»
Это, как говорится, так сказать, лирика, некий смутный набросок чувств, возникший на концерте Окуджавы через множество лет и за тридевять земель от родины. Кроме этих смутностей были и реальные наблюдения. Он постарел, как полагается, но и не более, чем полагается. Поседел, но остался тонок в талии. Сутуловат, как прежде, но не более того. Удивительно то, что за эти годы у него прибавилось вокала. Хочешь верь, хочешь не верь, сказал я ему, но мне кажется, что ты сейчас стал лучше петь, чем в молодости. Да-да, я знаю, ответил он, что-то странное произошло, в последние пару лет голос действительно почему-то улучшился.
Значит, это все-таки не благодаря «гласности», ухмыльнулся я. Ради каламбура иной раз и Булата не пожалеешь. Впрочем, каламбуры в сторону – магия его пения вызывает не только воспоминания, но и желание кое-что забыть. Об этом, однако, поговорим позднее.
В последнее время у нас сплошные визиты из прошлого. Одно из предсказаний догласновской поры полностью оправдалось. В американских кругах, помнится, все спорили, какие изменения принесёт послебрежневское поколение руководителей. Многие говорили: существенных изменений режима и системы ждать не приходится, а вот что касается стиля, то здесь изменения возможны, и прежде всего художественной элите позволят больше путешествовать.
Так и получилось: в этом сезоне в Америку приехали не только регулярные Евтушенко и Вознесенский, которые едва ли не ежегодно (если не дважды в год) чуткими поэтическими хоботками проводят зондаж американского общественного мнения, но и те, кого здесь давно не видели или даже не видели вовсе.
Три месяца провела здесь и очаровала всех Белла Ахмадулина. Она без устали читала стихи и в скромных залах местных клубов, и в престижных аудиториях Института Кеннана и Американской академии искусств. Мэр города Балтимора вручил ей ключи от города и звание почётного гражданина, что даёт ей, очевидно, право на почёт и в городе-побратиме Балтимора – Одессе.
В Принстоне поставил «Дядю Ваню» почтенный ленинградский мэтр Георгий Товстоногов. Большая делегация самых энергичных «перестройщиков», ведомая Климовым, посетила Голливуд.
В этой связи несколько слов об одном коротком, но почти сюрреалистическом эпизоде. Как-то в марте на ночь глядя прилетел я в Лос-Анджелес. У меня там был заказан автомобиль. В ожидании автобуса-челнока, который бы подбросил меня в распоряжение компании «Эйвис», я стоял у подъезда компании «Континентал», мимо которой лилась бесконечная река машин всех мыслимых компаний. Подошёл челнок, внутри играло радио, обычный рок-н-ролл. Вдруг музыка оборвалась и челнок сказал по-русски голосом Ролана Быкова: «Все люди доброй воли должны сплотить усилия в борьбе за мир на планете!»
В апреле в Вашингтоне появилась делегация советских писателей в составе Андрея Битова и Олега Чухонцева, они приняли участие в писательской конференции, организованной каким-то небедным лордом и организацией, название которой можно перевести на русский как «Пшеничные края», но от которой потягивало нефтью. Мне на заседаниях этой конференции побывать не пришлось, потому что она полностью совпадала с моими университетскими днями в Балтиморе, но, по сведениям «Литературной газеты», советские участники выступили лучше эмигрантских участников, если вообще не лучше всех.
Посещал недавно наши края самый популярный в Америке советский драматург Эдуард Радзинский. Сейчас по Америке ездят, по слухам, Михаил Рощин и артистка МХАТа, длинноногая, как цапля, Анастасия Вертинская. Ждут Искандера.
Когда-то в далёкие времена многие из этих людей пели песенку Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья».
2
Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке...
Возьмёмся за руки, друзья,
Возьмёмся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.
Продолжается выступление поющего поэта Булата Шалвовича Окуджавы в библиотеке Международного центра Вудро Вилсона, что в Вашингтоне, дистрикт Колумбия.
С этой песенкой, возникшей, если не ошибаюсь, в середине шестидесятых, связано воспоминание об одном московском вечере, когда на сцене Клуба гуманитарных факультетов МГУ, что на Моховой, спонтанно собралась компания, по нынешним временам совершенно немыслимая: Булат Окуджава, Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, художник Олег Целков и ваш покорный слуга. Из шести участников трое находятся в эмиграции и не очень-то, мягко говоря, ладят друг с другом, а трое оставшихся не очень-то любят появляться вместе. Группа, или, как в песне поётся, «цепочка», давно распалась, если когда-нибудь существовала. Брешь, которой так вожделенно жаждал век, была великолепно нащупана, если в ней вообще была когда-то нужда. Внутри развалившейся группы остались только личные человеческие связи или антисвязи – иные привязанности и даже дружеские чувства, иные враждебности и даже брезгливость.
А в тот вечер, случайно собравшись, все не могли разойтись и обрастали все новыми друзьями из числа молодого искусства, «цепочка» все удлинялась, скатывалась в кольца застолий, рассыпалась вдруг звеньями «междусобойчиков», но потом, подчиняясь сильнейшим магнитным эффектам той поры, вновь соединялась, пока один из нас за какие-то экстравагантные эскапады не попал в милицию, откуда его скопом же, «цепочкой», и выручали.
Таких вечеров на памяти – не счесть, гораздо меньше было дней сообща, когда что-то обсуждалось и что-то серьёзное предпринималось; все тогда воспринималось в контексте какого-то странного и, во всяком случае, преждевременного карнавала. И все-таки единство не всегда было иллюзорным, подчас эта пресловутая «цепочка» казалась даже на удивление прочной, что, вероятно, не могло не беспокоить ревнителей вековечной мудрости «разделяй и властвуй».
Если бы какой-нибудь историк культуры вознамерился сравнить русскую художественную сцену шестидесятых годов с нынешним положением, его поразил бы масштаб развала этого единства, размеры нынешней разобщённости и даже враждебности.
Литераторы всегда друг с другом собачились, Диккенс двадцать лет не разговаривал с Теккереем, Достоевский на дух не выносил Тургенева, хотя и ездил к нему одалживать талеры, чтобы отыграться в Рулетенбурге. Молодая эйфория послесталинских лет, конечно, не могла не выветриться, не могли не вступить в силу законы среднего возраста с его раздражительностью, брюзгливостью, ощущением невознагражденности, вольными или невольными попытками самоутвердиться за счёт других, однако масштабы деструкции выходят за пределы даже этих параметров и даже вызывают ощущение, что кто-то со стороны со знанием дела и старанием занимался этой проблемой, сеял рознь, распускал сплетни, подготавливал подлые щипки или удары в спину. Ссорить писателей – работа нетрудная, особенно для профессионалов.
Возраст художественного поколения уже подходит к итоговому, и если попытаться хотя бы временно вымести из избы сор и развеять кружащиеся в воздухе в поисках щеки плевки, что испускателям всегда кажутся комариными, а реципиентам верблюжьими, то можно, не боясь преувеличений, сказать, что послесталинское поколение русских артистов, что начинало в такой удивительной сплочённости, а сейчас пребывает в такой озверительной разобщённости, все-таки основательно пропахало мировой художественный огород и принесло всходы, едва ли не сродни тем мандельштамовским виноградникам, что «как старинная битва живёт, где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке». Даже и пресыщенный художествами свободный Запад не остался равнодушен к отзвукам этой «битвы», и в какой-то степени российское искусство было возвращено к его истокам.
Вот сейчас передо мной лежат два выпуска двух ведущих американских органов печати – вашингтонский «Пост» и нью-йоркский «Тайм». На этой неделе в них можно найти две большие статьи о творчестве двух крупных и полностью противоположных друг другу художников нашего поколения – кинорежиссёра Андрея Тарковского и поэта Евгения Евтушенко; в самом деле, трудно найти более несхожие личности, более отдалённые друг от друга концепции искусства и творческой судьбы.
«Пост» пишет о последнем фильме Тарковского «Жертвоприношение» и называет свою статью весьма выразительно – «Тарковского медлительный ожог». Фильм наполнен страстным и в то же время элегическим воздухом подведения итогов, он как бы является поэмой смертного ложа, написанной кровью и огнём, попыткой все объяснить и повернуть мир.
По всему фильму, продолжает критик, разбросаны приметы огромного мастерства, характерного для автора монументального фильма 1966 года «Страсти по Андрею» об иконописце Андрее Рублёве. Страсть выражает себя здесь в интенсивной духовности скорее, чем в действии. Раздумчивый и безмятежный, почти монашеский ритм фильма напоминает ритм грегорианских речитативов. Пульс действия столь медлителен, что иногда кажется, что его нет вообще.
Как и многие другие герои Тарковского, главный герой «Жертвоприношения» – это своего рода юродивый, Божий человек (в прямом переводе с английского это звучит как «святой дурак Господа Бога»). Он задаётся вопросом о природе существования и о смысле вещей. То, что он ценит больше всего, воплощено в средневековых иконах и в живописи Леонардо – чистота, мудрость, невинность, посвященность. Не обошлось тут и без некоторого иронического автопортрета. Слова, слова, цитирует он Гамлета, если бы только мы могли заткнуться и что-то сделать...
Финальный эпизод картины – это шести с половиной минутный пожар, жертвенное сжигание дома, чудо выдержанной до самой последней секунды виртуозности. У некоторых зрителей манера Тарковского, безусловно, может вызвать негодование. Он требует от зрителя столь многого, что мы нередко пребываем в оцепенении перед его мастерством.
Сопоставим с этим отзывом рецензию «Тайма» на последнюю книгу переводов стихов и прозы Евтушенко, и нам покажется, что речь идёт о существах с разных планет.
Статья называется «Горячий стиль Баракко» (не “барокко”) со станции Зима». У Евтушенко опять золотая пора, пишет рецензент, на этот раз гласность, поскольку еще со времён поэтических сборищ на площади Маяковского в Москве этот «драматический сибиряк» был повсеместно известен как поэт оттепели. Впрочем, пишет рецензент, менее привилегированные советские писатели знают его как мастера лавировать по тонкому льду.
Последняя книга красноречиво демонстрирует это искусство; в ней много театральных поз, но они не могут скрыть упрощённости поэта. Главными мишенями поэтического гнева по-прежнему являются старые монстры сталинизма и бюрократии, препятствующие «перестройке». Прежние его ударные и неожиданные по дерзости вирши вроде «Бабьего Яра» или «Наследников Сталина» сейчас подменены расплывчатой универсальностью.
По мнению критика, стихи Евтушенко основательно выигрывают в чтении, особенно для аудитории, не знающей русского языка. В этом случае публика очаровывается не поэтическим призывом, а самим нашим языком с «его мягким жужжанием и гортанными вздохами».
Последнее замечание, надо сказать, повергло меня в основательное недоумение: никогда не подозревал за ВМПСомимени Тургенева подобных качеств, свойственных вроде бы братьям грузинам, но вот сила печатного слова – теперь и в самом деле, кажется, улавливаю некоторое «мягкое жужжание».
Евтушенко, продолжает критик журнала «Тайм», очень гордится своей популярностью и бросает вызов критиканам.
«Стрелец», 1987, №12. Нью-Йорк