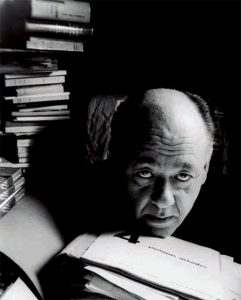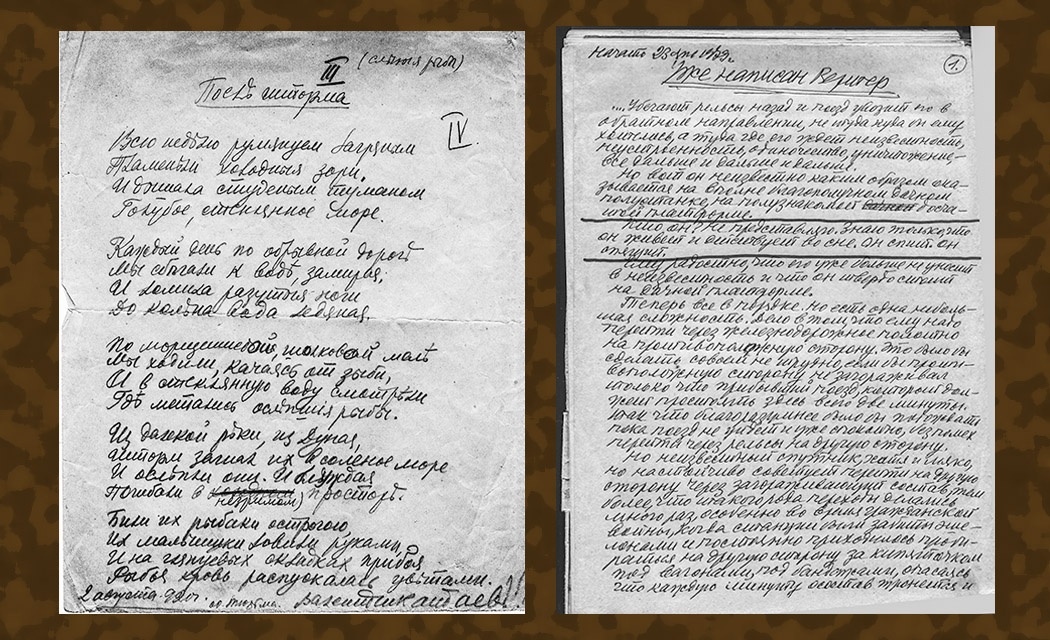Последние страницы
ЖЕСТОКАЯ ПРАВДА СТАРОСТИ
Я взбешён. Я и ждал этого, и не ждал. Ждал, что волосы у меня поседеют, что при ходьбе буду помогать себе клюкой, но не ждал умственной деградации и до сих пор к ней не готов. Лет в двадцать, в тридцать каждый знает, что будет потом, знает и как бы не знает. Все равно с этим миришься, потому что есть инстинктивная воля к жизни, страх смерти, который сильнее пыток, сильнее болезней. В молодости, да и позже, все, естественно, знают, что потом состарятся, знают и не знают. Чтобы понять, что такое старость, надо состариться. Знаю, бывает хуже: рак, неизлечимые болезни, или, когда на тебя ополчится всякое отребье, или пытки. Да, бывает и хуже, и это «бывает хуже» вколочено в нас, оно сопротивляется пытке, сопротивляется смерти.
На меня накатывает нежность пополам с печалью, когда я беру за руку мою милую, славную жену, у которой были такие милые, прелестные ручки. Сейчас руки у неё больные, а у меня тоже болят и руки, и ноги (я еще не сказал, что не могу ходить из-за артроза). Да, это не самое худшее, но и это не пустяк, а когда я беру за руку мою бедную жену – у неё были такие изящные, такие белые ручки – когда я беру её за руку и вспоминаю, какие были белые, изящные ручки, на меня накатывает горестная, болезненная нежность, и мне так хорошо с ней, с тремя её горбами, с тремя этими трогательными искривлениями. Бедная, она словно врастает в землю.
В сущности, Бог скрыл от нас правду. Все удивляются, почему подросток, взрослый человек, прямой и стройный, делается таким сгорбленным, таким скрюченным и не убивает себя: это необъяснимо. Нельзя отрицать, да, нельзя отрицать, что кроме отвращения к жизни, есть еще одно чудо, любовь. Я понимаю так: если я чего-то добился, если есть во мне что-то, сделавшее меня одним из великих писателей нашего времени, – я понимаю так, что за все это я должен платить. И уж во всяком случае надо платить за то, что живёшь.
В одной из своих пьес Беккет вкладывает в уста некоего персонажа слова, относящиеся к другому персонажу: «Он страдает, следовательно, он живёт». Жестокая прописная истина: рано или поздно она открывается каждому. Страдание непостижимо. Почему святая Тереза из Лизье страдает из-за своей любви к Богу? То же самое со святой Терезой из Авилы. Я говорю банальные вещи, не спорьте, крайне банальные, банальнее быть не может, пока жизнь бьёт ключом. А если я доживу до ста лет, какой ужас и какое счастье. Хочу я этого или не хочу – а я и хочу, и не хочу – при мне моя дочь, бедная моя дочурка, и она яростно борется за мою жизнь, разыскивает лучших врачей, лучшие лекарства, и выхаживает меня, выхаживает, выхаживает. Она занимается только нами двумя – своей матерью и мною.
...Этот негодяй Жан Жене. Парадоксы о предательстве, лишь бы эпатировать буржуа. Он приписывает одному из своих героев такие слова: «Стрелять по своим товарищам – это был великолепный трюк», и так далее. В конечном счёте он и прав и неправ, но я предпочитаю «Лысую певицу», это было прославление глупости...
У неё были маленькие, очень белые ножки, я называл их «белыми мышками». Теперь ступни у жены искривлены артрозом.
Есть он или нет его – все равно надо будет призвать его к ответу.
Морис де Гандильяк говорит мне, что Бог не надо всем властен, что им создано.
В кратком виде это именно то, что думаю я сам, так оно и есть, но это чересчур кратко. Мне трудно сказать и выдумать что-то еще. Я словно бегун на большие дистанции, который, запыхавшись, прибежал к финишу. В голову приходят кое - какие мысли, сформулирую завтра.
Я в отчаянии от седых волос Жана Маре и Мишель Морган, от седых усов Мишеля Серро. Жан Маре, Мишель Морган, Мишель Серро смиряются с сединой, как будто стареть «естественно». Они принимают свою судьбу с радостью.
А я думаю, что это неприемлемо, что все это неприемлемо, что жизнь неприемлема. Нельзя изменить законы, но восстать против них можно. Все человечество должно было бы восстать против этих законов.
И вот что докучает мне не меньше старости, не меньше болезней: скука. Сегодня я скучаю меньше, чем в другие дни, вероятно, потому, что мне удалось записать эти несколько мыслей, что-то сказать, что-то сказать.
Скука слабеет, если стоять или сидеть; она зависит от позы. Лежать – это хуже некуда. Скука бегает, как волна, волна скуки. Я буду стонать скорее от скуки, чем от боли, а когда к скуке добавляется тоска, неумолимая тоска, неумолимая тревога, от этого нет спасения. Я перестал радоваться – вот чего мне больше всего не хватает. Разве можно так жить? Не можешь, а живёшь...
Рождаешься, чтобы умереть, умираешь, чтобы быть. Рай: место, где нет смерти, место, где все живое, вечная жизнь, в которой все существует. Здесь, вне какого бы то ни было Эдема, то есть в том месте, которое называется везде, люди рождаются, чтобы умереть. Все создано для того, чтобы прийти к концу. Рождаешься, растёшь, живёшь, вся природа живёт и фантастической лавиной летит навстречу смерти, навстречу небытию. Я пью чашку кофе, чтобы испить её до дна. Хожу в школу, чтобы её окончить. Иду на спектакль, чтобы досмотреть его до конца и так далее. Впрочем, известно, что всему на свете бывает конец. А умираешь, наоборот, чтобы родиться. Значит, смерть, наверно, это что-то вроде перехода к жизни, да, рай, должно быть, и есть место, где все существует. Агония: муки рождения?
МОЕ ПРОШЛОЕ ОТ МЕНЯ ОТДЕЛИЛОСЬ
В старости нельзя ожидать, что здоровье наладится. Какое лекарство ни принимай, дела все равно идут хуже и хуже. Есть люди, сотканные из собственного прошлого. Мне кажется, что моё прошлое в каком-то смысле от меня отделилось и мне не принадлежит. А ведь я знаю, что это я написал «Лысую певицу», «Стулья» и так далее, и что у меня уже давно есть дочка по имени Мари-Франс и жена по имени Роди- ка. Но прошлое не определяет моей сути.
Тот я, который живёт теперь, поглотил все остальное.
Час – не для всех один и тот же час. Восприятие времени бывает разное, иногда час равняется двадцати, тридцати минутам или четверти часа, а иногда, наоборот, тянется намного дольше. Объективного времени не бывает, или, по крайней мере, не бывает объективного восприятия времени. Когда я скучаю – а я скучаю нередко – время тянется, тянется, тянется. Иногда время идёт, а иногда и стоит на месте. Когда ждёшь хоть десять минут – это дольше, чем час, проведённый без скуки.
Старики причиняют много зла, старухи – колдуньи: их обвиняют в мелких пакостях и в уродстве. Бедные старухи.
От старости никогда не излечишься, не то что от гриппа. Через некоторое время вместо того, чтобы поправиться, попадаешь в те же капканы. Отделаешься от какой-нибудь хвори, но все равно можешь быть уверен, что старость и дальше будет творить разрушения.
С тех пор как я родился, мною владеют восхищение и страх. Что сильнее? Для меня сейчас – страх.
Сиделка говорит: «Страдание – вот что меня удивляет. Если у человека есть вера, зачем ему так страдать? Это удивляет меня все больше и больше, все больше и больше. Читаю святую Терезу из Лизье, читаю книги святой Терезы из Авилы и удивляюсь, удивляюсь».
Живу между удивлением и страхом, восхищением и ужасом.
Жена говорит: «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Когда ты умрёшь, я тоже сразу умру». Правильно, я и должен уйти первым. Не могу больше жить. Руки, пальцы на руках, ноги – сегодня все это чинит мне почти неодолимые проблемы. Завтра вообще ничего не смогу.
Спрашиваю себя: куда они все делись? Сказать, что их нигде нет, легко. Сказать, что они где-то есть, невозможно.
Мы все втроём – в очень незавидном положении. Как с нами поступят? Или как Он с нами поступит? Чем больше об этом думаю, тем больше удивление и ужас.
Этой ночью мне снилась жена. Ей снилось, что я умираю, и лицо у неё было искажённое, подурневшее, но любимое как никогда. Она проснулась, чтобы сказать мне: если я умру, она меня не переживёт.
О старости говорят мало. Те, кто мог бы поговорить о ней со знанием дела, слишком стары. Старость не существует в письменном виде.
Отвращение к кюре и прелатам, с их дубовым языком, но все-таки они в себе уверены и знают, как выстоять и в молодости, и в старости.
Какая польза от того, что стареешь? Смотришь, как стареют другие. Два года я не видел одного хорошего друга. Два года прошло и я увидел его постаревшим: седина, одутловатость и лицо уже отсутствующее.
Каждый миг нашего старения можно было бы отметить, сравнив его с предыдущим. Наше самое важное переживание в жизни – это старение, понимание того, что стареешь. Я постарел со вчерашнего дня, с прошлого года, постарел за последние десять, двадцать лет.
Вот самое важное, что я сделал в жизни: состарился.
ГОСПОДИ, СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБЫ Я В ТЕБЯ ПОВЕРИЛ
Массаж не помогает. Вот сию минуту мне, несмотря ни на что, так больно, что трудно писать. Когда испытываешь такую боль, мысли разбегаются. Скоро пять часов, ночь приближается, ненавижу ночь, но все- таки иногда она приносит мне такой блаженный сон. Мои пьесы играют чуть не по всему свету, и я думаю, что люди, которые ходят их смотреть, смеются или плачут, не зная настоящих страданий. Понимаю, что скоро это кончится, но как я уже сказал, каждый день – это выигрыш. Жена мается глазами и мне от этого еще тяжелее. По-моему, я знаю, где я, хотя чуть-чуть притворяюсь, что не вполне в этом уверен. И все-таки знаю. В кресле, из которого мне так трудно подняться без помощи моей жены, худенькой и хрупкой, или дочки, или, что лучше всего, с помощью более крепкой женщины, нашей помощницы по дому, так их теперь называют.
* * *
Иногда меня навещают друзья, несколько верных друзей. Мне очень приятно их видеть, но через час я уже устаю. Что хорошего я делал раньше? Думаю, зря тратил время, плыл по течению. В голове пусто, и трудно продолжать, не из-за боли, а из-за экзистенциальной пустоты, которой полон мир, если можно сказать, что мир полон пустоты. Кроме кофе с молоком, в моей жизни есть только два обожаемых существа, да еще, если позволительно сочетать это вместе, обеды и ужины, которые, заодно с завтраками, остаются великими событиями моей жизни. Думаю о том, что вот сейчас я встану, но не имею понятия, что мне делать со временем, остающимся до половины седьмого или даже до семи, когда будет ужин, и, как всегда, думаю о том, что, может быть, умру сегодня вечером или, в лучшем случае, завтра или послезавтра. Или даже – кто знает? – еще позже. Когда я не думаю о самом худшем, то скучаю, скучаю. Иногда мне кажется, что я думаю, иногда – что молюсь. Вот сейчас ко мне пришёл друг и, по счастью, пустота ненадолго отступает, и кто знает, может быть, что-то и останется, что-то и останется. Может быть, радость придёт потом. Какой формы Бог? Мне кажется, что Бог овальной формы...
* * *
На моем, как говорится, жизненном пути мне помогало множество людей, перед которыми я в большом долгу. Прежде всего, это моя мать, которая произвела меня на свет: она была невероятно ласковая и очень весёлая, хотя один её ребёнок умер очень рано, а муж, как я уже рассказывал, бросил её одну в огромном Париже. Она разыскала там сестру, Сесиль, которая и сама могла предложить ей лишь место в маленькой квартирке, где жили мои дедушка Жан, бабушка Анна и молоденькая Сесиль, моя тётка. Позже мне, бедняку, удалось найти что- то вроде работы, надписывать конверты для школы, в которой готовили к экзаменам на степень бакалавра. Мне тогда хотелось продолжать преподавание. И директриса, предложившая мне надписывать адреса на конвертах, сказала: «Все-таки это связано с вашей профессией – ведь вы же были преподавателем. Надеюсь, перемена не слишком выбьет вас из колеи». В своё время мне пришёл на помощь отец, живущий в Бухаресте: он заставил меня получить среднее образование, а потом уж я сам получил и высшее. Но больше всего меня выручали и поддерживали в жизни жена Родика и дочка Мари-Франс. Без них я бы, конечно, ничего не сделал и не написал. Им я обязан всем своим творчеством и все мои книги посвящены им. А потом, позже, были все мои преподаватели в бухарестском лицее. И директор лицея – благодаря ему я, несмотря на свою лень (в школе я ничего не учил), ходил в публичную библиотеку и читал книги. Я обязан Стефану Попу тем, что получил степень бакалавра. Но это несравнимо с помощью, которую мне оказывала жена, – и тогда, и позже, все дни, не зная передышки.
* * *
Я очень обязан жулику Керцу, подстроившему провал в день последнего представления «Носорогов» в Нью-Йорке, что принесло ему сумму в 40 000 долларов, но создало мне имя в Соединённых Штатах. Невольно он помог мне. А потом была Маргарет Рамсей, мой литературный агент. И были английские и французские литературные критики, в том числе Жан-Жак Готье и Роберт Кемп, которые так яростно на меня обрушились, что это очень укрепило мою известность. Критики «Монд» были против критиков «Фигаро» и наоборот, к тому же левые поначалу думали, что я левый, а правые – что правый. И те, и другие, сами того не подозревая, сделали для меня много хорошего, в том числе Барт и еще один, чью фамилию мне сейчас не припомнить. И опять-таки моя жена, снова жена, заставила меня получить степень лиценциата и принять участие в конкурсе на должность преподавателя. В результате в один прекрасный день директор-француз дал мне стипендию, чтобы я мог продолжить образование в Париже и подготовить докторскую диссертацию, которую я так и не написал. Его звали Альфонс Дюпон, он скончался недавно в возрасте 89 лет. А еще мне помогла, желая навредить, вторая жена моего отца, Лола: она выставила меня из отцовского дома, и мне пришлось как-то устраиваться самому, вот я и добился успеха. Мне помогли преподаватели лицея Сен-Сава, выгнавшие меня из своего лицея, и благодаря этому мне удалось получить степень бакалавра в провинции, где меня приютила сестра жены, Анжела, державшая пансион для юношей-лицеистов, которые, насколько мне известно, ничего не добились в жизни. Кочуя из дома в дом, из семьи в семью, я, бесприютный бродяга, стал обладателем прекрасной квартиры на Монпарнасе. Наконец, иногда меня поддерживали более или менее дальние родственники, и тетя Сабина, и тетя Анжела, и преподаватели, воображавшие, будто у меня есть талант. Недавно, в войну 1940 года, мне помогла мать моей жены, Анка, которая, превозмогая горе, отпустила зятя с дочерью во Францию, хотя сердце у неё обливалось кровью. Она умерла, веря, что приедет к нам в Париж, хотя ей это так и не удалось, она умерла с этой надеждой. Мне помогал Бог, когда в Париже я оказался на положении беженца, потому что не желал примкнуть к бухарестским коммунистам: как-то взял я корзинку, а денег у меня не было ни гроша, и пошёл на рынок, и нашёл на земле 3000 франков, тех, сорокового года. Вот сколько обстоятельств мне помогало. Может быть, Бог поддерживал меня в жизни и во всем, что я делал, а я этого и не замечал. А еще мне помог мой квартирохозяин с улицы Клод-Терасс, г-н Колом- бель, да благословит его Бог, он не посмел выставить за дверь беженца, который не платил за квартиру, но, может быть, был послан Богом. Вот так, переходя из рук в руки, мне и удалось стать такой знаменитостью и вдвоём с женой дожить до восьмидесяти и даже до восьмидесяти одного с половиной года, и терзаться тоской и страхом смерти, не догадываясь о том, что Бог сделал мне хоть что-то хорошее. Он не отменил ради меня смерть, и это, по-моему, недопустимо. Но мне были даны жизнь, здоровье, доктора, спасающие от несчастий, которые я сам на себя навлёк неразумным поведением.
Несмотря на все мои усилия, несмотря на священников, мне так и не удалось прийти в объятия Бога. Мне не удалось окончательно уверовать. Увы, я как тот человек, о котором рассказывают, что каждое утро он молился: «Господи, сделай так, чтобы я в тебя поверил». Как все, я не знаю, есть что-нибудь по ту сторону или нет ничего. Вместе с папой Иоанном Павлом II я склонен думать, что между силами тьмы и силами добра идёт вселенская битва. Я, разумеется, верю в конечную победу добра, вот только каким образом это произойдёт? Кто мы – брызги мироздания или существа, которым предстоит воскреснуть? Может быть, больше всего меня удручает разлука с женой и дочкой. И с самим собой! Я надеюсь, что не утрачу способности к самоотождествлению – временному, надвременному и вневременному. Я с невероятным трудом хожу с помощью дочери, которая меня обнимает и поддерживает, мне страшно, и на каждом шагу я рискую упасть.
* * *
Люди приходят на землю не для того, чтобы жить. Приходят, чтобы зачахнуть и умереть. Проживаешь детские годы, растёшь, очень скоро начинаешь стареть, а все же трудно представить себе мир без Бога. Все-таки легче думать, что Бог есть.
Похоже на то, что современная медицина и геронтология во что бы то ни стало пытаются представить человека во всей его полноте, чего не сумело божественное начало: поднять его над старостью, слабоумием, истощением и так далее. Воссоздать человека во всем блеске, бессмертного, каким не захотело или не смогло его сделать божество. Каким его не сделало божество.
Раньше, каждое утро, вставая с постели, я говорил: слава Богу, даровавшему мне еще один день. Теперь говорю: еще один день он у меня забрал. Что сделал Бог со всеми детьми, со всем скотом, которых отнял у Иова.
И все-таки, несмотря ни на что, я верю в Бога, потому что верю в существование зла. Если есть зло, есть и Бог.
Перевод Е. Баевской