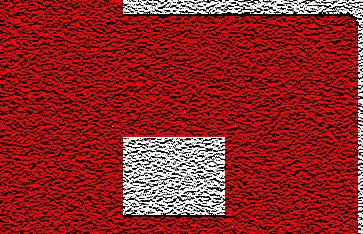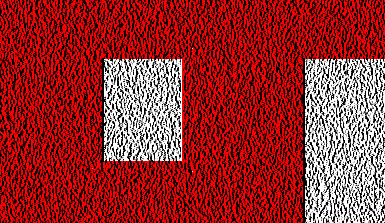ИОНЕСКО ИЛИ БЕРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ
Всякому известно, что он смертен. Но Ионеско помнит об этом, даже когда требует меню в ресторане. Даже во время обеда он помнит, что приближается к смерти. Знает это и Беранже, двойник Ионеско в его комедиях. Смерть не просто постоянно присутствует во всем, что Ионеско пишет, – смерть, умирание его и других людей, есть для него нечто всеобщее и непрерывное.
«Когда колокола звонят к погребению, меня охватывает таинственная тоска и тянет куда-то. Все, кто умирает, – наши знакомые». Это одна из самых первых записей в его «Разрозненном дневнике» («Journal en miettes»). Несколькими страницами дальше читаем: «В четыре-пять лет я понял, что буду становиться все старше и старше, а потом умру. Годам к семи-восьми я сказал себе, что рано или поздно умрёт моя мать, и эта мысль меня ужаснула». И еще: «...наверняка известно только одно: смерть ждёт мою мать, моих близких, меня самого».
Много лет спустя, вспоминая о площади Вожирар, возле которой прошло его парижское детство, Ионеско писал в книге «Заметки за и против» («Notes et contre-notes»): «Когда вид этой улицы всплывает у меня в памяти, когда я думаю о том, что почти все эти люди сегодня уже умерли, все кажется мне призрачным и мимолётным. Подступает дурнота, тоска. Значит, наш мир – или пустыня, или агонизирующие тени». Вот две фразы, которые могли бы завершить длинный монолог Беранже во время его последней встречи с Убийцей: «Пожалуй, именно к Смерти обращено моё с таким ужасом произносимое «Почему?» Только смерть способна заткнуть и заткнёт мне рот» («Разрозненный дневник»).
Двойник Ионеско в «Убийце» говорит: «Все мы умрём, в этом главное безумие». В «Разрозненном дневнике» читаем: «Положение человека невыносимо». И далее: «Не понимаю, как на протяжении сотен и сотен лет люди соглашались жить в таких невыносимых условиях, соглашались существовать, преследуемые страхом смерти, среди войн и страданий, не решаясь на открытый и решительный протест... Мы все попались в коллективную ловушку и даже не пытаемся по-настоящему сопротивляться».
Отрывки в таком духе можно цитировать все дальше и дальше, но все они, утомительные в своём однообразии, сводятся к тому, что смерть – это бесконечный процесс, исцеление невозможно, но и смирение тоже невозможно. И добавить к этому нечего. Ионеско еще в Сорбонне намеревался написать диссертацию «Тема греха и смерти в поэзии после Бодлера», но так и не завершил ее. «Ушибленный» идеей смерти, он стал комедиографом.
Согласно простейшему определению, комедия есть представление, вызывающее смех. «Нет ничего трудней, – писал Мольер, – как рассмешить les honnetes gens*». Но кто же эти les honnetes gens в наше время? Вы и я – мы все смеёмся комедиям Ионеско.
* Порядочные люди (фр.)
Комизм «Лысой певицы», «Урока» или «Амедея» можно сравнить только с ранними фильмами Чаплина. Эти комедии вызывали и продолжают вызывать громкий смех.
Но что это за смех и каков объект этого смеха? «Когда я говорю: «Стоит ли жизнь того, чтобы за неё умирать?», – я всего лишь произношу слова. Но они-то как раз и смешны» («Разрозненный дневник»). Другими словами, смерть может рассмешить, если о ней говорить или представлять её на сцене. «Что до меня, – поясняет Ионеско в «Заметках за и против», – я никогда не понимал той разницы, которую люди способны находить между комическим и трагическим. Если «комическое» заключается в интуитивной способности к восприятию абсурда, то в таком случае оно кажется еще более безнадёжным, чем «трагическое». От «комического» не убежишь. Я сказал – кажется безнадёжным, но на самом деле оно лежит за границами надежды или отчаяния... По-моему, комическое – это трагическое, а трагедия человека – «чистейшая насмешка».
Трагедия является источником метафизического утешения. Трагедия без метафизики – обычное, ничем не оправданное умирание, лишённый надежды абсурд – смехотворна. «Чистейшая насмешка», – говорит Ионеско. И где же эта насмешка имеет место? На сцене. Смехотворно-трагическое – вот жанр для театра. В 1960 году Ионеско писал: «Когда старые писатели используют комическое с примесью трагического, в конце концов их персонажи перестают быть смешными: трагедия берет верх. В моих пьесах все обстоит наоборот: в начале они комичны, местами трагичны, а заканчиваются как комедия или трагикомедия». Ионеско назвал «Лысую певицу» антипьесой, «Урок» – комической драмой, «Стулья» – трагифарсом. В «Жертвах долга» Никола объясняет Детективу: «Не надо драмы, не надо трагедии: трагическое становится комическим, комическое – трагично, так жить веселее... веселее».
Термин «трагикомедия» в этом случае только собьёт с толку. То «жить веселее», о котором Никола говорит Детективу, – это «трагифарс». Прибегая к терминологии Аристотеля, можно сказать, что ужасное должно сопровождаться смехом, а не жалостью и не сочувствием.* Трагическому герою предстоит выразить свою роль в первую очередь в клоунаде. Как следствие, весь ужас его трагического положения обнаруживается лишь на миг и сразу же преодолевается в смехе, так, чтобы жить вновь стало «веселее».
Ионеско постепенно трансформировал смехотворно-трагическое в трагически-смехотворное, как в размышлениях, так и в пьесах, двигаясь от «Стульев», «Жака или Покорности» и «Амедея» к «Убийце» и «Король умер». Эта перемена, этот обратный порядок трагического и смехотворного представляется своего рода формулой для трагической буффонады. Лучшее и, вероятно, самое раннее определение этого жанра было дано Питером Пигвой из «Сна в летнюю ночь» в той сцене, где он собирает своих актёров на первую репетицию: «Пьеса наша, – говорит Пигва, – прежалостная комедия и весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы». *
*«Этот неаристотелевский театр сталкивает нас с проблемой, которую Аристотель не предвидел, а именно, с жалостью и страхом, для которых смех является катарсисом». (J.S. Doubrovsky, «Ionesco and the Comic of Absurdity», Yale French Studies 23 [1959]: 9).
Столь длинно названная «весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы» – «комедия», но в то же время «прежалостная». Эта разыгранная афинскими ремесленниками пьеска представляет собой не что иное как бурлескный парафраз «Ромео и Джульетты», пьесы, которая, в свою очередь, в одном из ранних изданий Шекспира называется «превосходнейшей и прежалостной трагедией». Весьма жестокая кончина Ромео и Джульетты (так же как весьма жестокая кончина Беранже в «Убийце» и «Смерти короля») на сей раз представлена комически. Что не мешает, впрочем, этим комедиям быть «прежалостными». «Возьмите трагедию, – писал Ионеско в «Заметках за и против», – ускорьте движение, и вы получите комедию...», или, еще более эмоционально: «Бурлескная роль – играйте её драматически. Драматическая роль – играйте её бурлескно».
Первые постановки пьес Ионеско в 1950-х годах вызвали одновременно восхищение и протест, восторг и ужас из-за своей ошарашивающей новизны. Но все же самое удивительное в трагифарсах Ионеско – возврат к наиболее старым и устойчивым традициям комедийного театра и карнавального язычества: мир переворачивается с ног на голову, нищего провозглашают королём, образом общества становится корабль дураков, шуты правят светскими церемониями и церковными ритуалами, смерть шествует среди масок по городским улицам, умирание приравнивается к рождению и жить становится «веселее».
«Не успели сумерки спуститься на узкую и длинную улицу, как тут и там в окнах и на помостах начинают вспыхивать и мерцать огоньки; они мелькают чаще и чаще, и вот уже вся улица освещена горящими восковыми свечами. ...Каждому теперь вменяется в обязанность держать в руках зажжённую свечку, и со всех сторон только и слышится излюбленное проклятие римлян: «Sia ammazzato». «Sia ammazzato, chi non porta moccolo»! – «Смерть тому, кто не несёт огарка!» – кричит один другому, пытаясь затушить его свечку». **
Так Гёте в своих «Итальянских впечатлениях» начинает описание римского карнавала 1788 года.
* Шекспир, «Сон в летнюю ночь», перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник.
** Здесь и далее отрывки из Гёте даны в переводах Наталии Ман.
«И чем сильнее разносится во все концы вопль: «Sia ammazzato!», тем больше утрачивает это слово свой страшный смысл и тем скорее забываешь, что ты в Риме, где это проклятье из-за любого пустяка может осуществиться над тобой или другим.
Значение этих слов мало-помалу полностью утрачивается, и так же как на других языках нам нередко приходится слышать проклятия или непристойности, которые служат выражением радости или удивления, так в этот вечер «Sia ammazzato!» становится призывом, криком радости, неизменным рефреном всех шуток, насмешек и комплиментов...
Неистовствуют все сословия и все возрасты, кто-то вскакивает на подножку кареты, ни одна висячая лампа, даже уличные фонари не находятся в безопасности. Мальчик тушит свечку отца и непрерывно кричит; «Sia ammazzati il Signore Padre!». Отец тщетно указывает ему на неприличие такого поведения, мальчик рьяно отстаивает свободу этого вечера и еще пуще клянёт своего родителя».
Ионеско пишет в своих «Заметках»: «...только смех не чтит никаких табу... только комическое даёт нам силу вынести трагедию существования». Это его раннее интуитивное понимание абсурда как «трагедии существования» не более чем дань философской моде пятидесятых. Однако подлинная интуитивность Ионеско заключалась в его возвращении к карнавалу, на котором был представлен не только наш современный Angst*, но где, как на древних сатурналиях, маску Смерти сопровождали маски фаллофоров и благодаря этой инверсии символов похоронный ритуал оборачивался свадебным.
«Поэтому нас не удивят, – пишет Гёте в тех же «Итальянских впечатлениях», – и толпы масок, которые мы в скором времени увидим на улице; здесь круглый год смотришь на самые разнообразные сцены, разыгрывающиеся под ясными, весёлыми небесами. ... Каждого покойника провожает на кладбище процессия с головы до ног, закутанных в свои облаченья братьев различных орденов; всевозможные монашеские одежды приучают глаз к необычным, странным образам, словно весь год длится карнавал...»
Однажды в Нью-Орлеане мне довелось видеть выступление любительской труппы, избравшей темой для балета похороны. Причитания в ритме блюза становились все экстатичнее. И чем выше поднимался гроб, тем выше взлетали голоса. Ноги, взметаясь из-под длинных черных юбок, начинали, казалось, жить независимой жизнью. Еще миг – и гроб закачался в воздухе в такт танцующим бёдрам и животам.
Нью-Орлеан – одно из последних мест на земле, где еще сохраняются во всем своём неотразимом символизме старые карнавальные традиции, соединяющие воедино проблемы пола и смерти. Совсем, как у Гёте в его описании римского карнавала: «Компания мужчин... разгуливает с молодыми людьми, нарядившимися в женское платье. Одна из этих «женщин» с виду уже на сносях... Между тем беременной женщине от испуга становится дурно; кто-то приносит стул, подруги хлопочут вокруг неё. Она жалобно стонет и вдруг к вящей потехе окружающих производит на свет какое-то безобразное существо».
В согласии с древнейшей традицией сатурналий роженица – это смерть. «Среди знаменитых керченских терракотов, – пишет М.М. Бахтин в своей книге «Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», – есть, между прочим, своеобразные фигуры беременных старух, безобразная старость и беременность которых гротескно подчёркнуты. Беременные старухи при этом смеются... Это беременная смерть, рождающая смерть. В теле беременной старухи нет ничего завершённого, устойчиво-спокойного. В нем сочетаются старчески разлагающееся, уже деформированное тело и еще не сложившееся, зачатое тело новой жизни».
Бахтин пишет о том, что в теле протекают сразу оба противоположных друг другу процесса распада и роста – это и есть беременная смерть. Сатурналии и карнавалы сокращают бесконечность и непрерывность жизни и потому совершенно отрицают жестокий взгляд Сэмюэла Беккета на непрерывное умирание, выраженный в словах: «... день рождения, день смерти, один и тот же день, один и тот же миг... ложе сна роженицы разверзаются над могилой...»
Рожающая смерть в карнавальном фарсе – отнюдь не носящая под сердцем новую смерть молодка, но старая карга, беременная новой жизнью. Тело, в котором зачинается новая жизнь, в то же время и разлагается. Благоговение вызывает смех: в символике карнавала это одно и то же тело. Бахтин продолжает:
«Одна из основных тенденций гротескного образа тела сводится к тому, чтобы показать два тела в одном: одно – рождающее и отмирающее, другое – зачинаемое, вынашиваемое, рождаемое. Это – всегда чреватое и рождающее тело или хотя бы готовое к зачатию и оплодотворению...
Далее, и возрасты этого тела, в отличие от новых канонов, берутся преимущественно в максимальной близости к рождению или смерти: это – младенчество и старость с резким подчёркиванием их близости к утробе и могиле, к рождающему и поглощающему лону. Но в тенденции (так сказать, в пределе) оба этих тела объединяются в одном. Индивидуальность дана здесь в стадии переплавки, как уже умирающая и еще не готовая; это тело стоит на пороге и могилы и колыбели...
Далее, неготовое и открытое тело это (умирающее – рождающее – рождаемое) не отделено от мира чёткими границами: оно смешано с миром, смешано с животными, смешано с вещами. Оно космично, оно представляет весь материально-телесный мир во всех его элементах (стихиях). В тенденции тело представляет и воплощает в себе весь материально-телесный мир как абсолютный низ, как начало поглощающее и рождающее, как телесную могилу и лоно, как ниву, в которую сеют и в которой вызревают новые всходы».
Воображение и мудрость карнавала, которые Бахтин обнаружил в творчестве Рабле, неожиданно оказываются наиболее подходящим введением в мир таких пьес Ионеско как «Жак или Покорность» и «Будущее в яйцах». Ионеско использует в обеих пьесах старую формулу комедии нравов: две семьи, робкий юноша, некрасивая девица, сват, помолвка, свадьба. Долгое ожидание потомства. Но под его пером «натуралистическая комедия» превращается в карнавальный фарс и чуть не в скотный двор. Всех персонажей в обеих пьесах зовут либо «Жаками» либо «Роберами», и у всех у них одинаковые лица-маски. Их тела незавершённым, они одновременно распадаются и растут. Сгрудившись в стадо, они даже начинают терять остатки человеческого облика. Отдельные части тела множатся: например, у Роберты II – три носа и девять пальцев на руке.
Жак: ...Вы богаты, я женюсь на вас.
Очень неловко обнимает ее. Целует носы Роберты II, один за другим, а тем временем Жак-отец, Жак-мать, Жаклин, дедушка с бабушкой, Робер-отец, Робер-мать, не произнося ни слова, входят один за другим, переваливаясь с боку на бок, словно в каком-то смехотворном тяжеловесном танце, и начинают водить вялый хоровод вокруг Жака-сына и Роберты II, которые неуклюже обнимаются посреди сцены. Робер-отец беззвучно и медленно хлопает в ладоши. Робер-мать, заложив руки за голову, выделывает пируэты и глупо улыбается. Жак-мать с неподвижным лицом гротескно поводит плечами. Жак-отец подвернул брюки и ходит, ступая на каблуки. Жаклин качает головой, потом они все продолжают танцевать уже на корточках; Жак-сын и Роберта II тоже садятся на корточки и застывают в неподвижности. Бабушка и дедушка по-идиотски кружатся, глядя друг на друга, и улыбаются, затем тоже садятся на корточки. Все это должно вызывать у зрителей тягостное чувство неловкости и стыда. Темнота сгущается. Актёры на сцене невнятно мяукают, продолжая кружиться, издают какие-то странные стоны, какое-то карканье. Темнота все гуще. Еще видны сгрудившиеся на сцене Жаки и Роберы. Слышны их звериные стоны, а затем их уже не видно. Слышно только, как они стонут, вздыхают, потом все исчезает, гаснет. Снова серый свет. Все исчезли, кроме Роберты, которая лежит, вернее, сидит на корточках, съёжившись под платьем. Видно только, как покачивается её бледное лицо с тремя носами и шевелятся, подобно рептилиям, девять её пальцев.
В пьесе «Будущее в яйцах» конюшня превращается в курятник. Роберта II начинает одно за другим откладывать яйца. Она – яйцекладущее существо. Количество яиц беспредельно умножается, и все они одинаковы. Будущее – в яйцах. Из них вылупятся неотличимые друг от друга Жако-Роберы. Но даже в этом карнавальном курятнике неистощимой плодовитости, в котором уже искоренена всякая индивидуальность и жизнь сводится к яйцам, даже в нем присутствует смерть. Непосредственно перед тем как молодая жена начинает нести яйца в лукошко, умирает дедушка Жак. Умереть здесь означает войти в пустую раму. И семейство по-настоящему потрясено, когда он, бормоча себе под нос, на мгновение выступает из этой рамы.
Для Фрейда смех – это взятка, получаемая внутренним цензором за то, что он допускает шутку, выражающую похоть и запретные желания. Но еще сильнее запрещён – а потому сильнее подавлен – ужас смерти, страх перед тем, что нам предстоит умереть. Всем и каждому. И взяткой за разрешение обнаружить этот ужас и этот страх оказывается все тот же смех. Древняя беременная смерть – это смерть смеющаяся. Когда среди груд карнавального сора мужчина, переодетый женщиной, производит на свет уродливое чудище, это вызывает буйный смех. Шутовское зрелище порождается страхом смерти. Согласно Бахтину, «...неразрывно сплетены смерть с рождением, родовой акт с агонией. В то же время образы эти неразрывно связаны со смехом.
Смерть и рождение в образах мочи и кала даны в своём весёлом смеховом аспекте. Поэтому образы испражнения в той или иной форме почти всегда сопутствуют тем весёлым страшилищам, которые смех создаёт, как замещения побеждённого страшного...»
Характерно, что Гёте проницательно разгадал ту же переплетённость мотивов смерти, пола и рождения в карнавальных пантомимах, разыгрывавшихся на улицах Рима: «Когда в разгаре этих сумасбродств грубоватый пульчинелла непристойно напоминает нам о радостях любви, которым мы обязаны своим существованием, когда новая Баубо на общественной площади оскверняет таинство рождения, когда множество зажжённых в ночи свечей наводят нас на мысль о последнем торжественном обряде, то среди всего этого сумбура наш разум обращается к важнейшим явлениям жизни».
Пульчинелла, такой, каким он попал на уличный карнавал из commedia dell arte, всегда носил на лице чёрную кожаную маску с огромным горбатым носом. Это – маска Арлекина, но костюм другой. Костюм Пульчинеллы – это большой белый цилиндр, белые панталоны и куртка, горб на спине и подушка, подвязанная к животу.
«Детские забавы» *, как иронически назвал Доменико Тьеполо свою серию из сотни акварелей, – великий трагифарс. Это печальное и смешное, горькое и насмешливое повествование о жизни Пульчинеллы в ста сценах – от появления на свет из яйца индюшки до высылки из Венеции XVIII века.
Заглавный лист «Детских забав» изображает старого Пульчинеллу, уныло созерцающего надгробие, на котором начертано название серии. На плечах у него сидит кокетливо улыбающаяся кукла в праздничном наряде венецианки. Она отвернулась от могилы, в руке у неё – веер. Красотка весело болтает ножками, выставив их из-под подола платья. Рисунок, может быть, символизирует конец карнавала и начало Великого поста, а возможно, бурлескно пародирует благочестивую мистерию, изображавшую воскресение Христа.
Пульчинелла умирает, но не навсегда. На рисунке Пьеро Леоне Гецци (начало XVIII века) Пульчинелла, нежданно встаёт из могилы, напугав крестьянское семейство. На одном рисунке Тьеполо из числа его «Забав» скелет Пульчинеллы в характерном белом цилиндре выскакивает из-под надгробия в стиле рококо. Так шутовскую шапку Пульчинеллы надевает сама смерть.
На рисунках Тьеполо улицы Венеции заполнены Пульчинеллами. Они обнимают девиц под сенью виноградных лоз, пляшут на сельских праздниках, охотятся на куропаток, катаются в цирке на слонах, собирают арендную плату с крестьян, удивлённо таращатся на таких же горбатых, как они сами, верблюдов. Далеко не все Пульчинеллы – мужчины, попадаются и женщины в горбоносых масках. У Пульчинелл есть жены-Пульчинеллы и дети-Пульчинеллы, появляющиеся на свет сразу с брюхом, горбом и черным носом. Но в рисунках Тьеполо, возможно, следуя какому-то утраченному. сочинению, Пульчинелла перестаёт быть только персонажем венецианской комедии нравов или карнавальной пантомимы. Он попадает под арест; другие Пульчинеллы навещают его в тюрьме. Так же как на рисунках Калло или, скажем, в изображении ужасов наполеоновских войн у Гойи, в «детских забавах» Тьеполо мы видим сцены повешения и других казней. Вот Пульчинелла с завязанными глазами, в обычной своей носатой маске, стоит в ожидании казни, прикованный к столбу. Вот другой, уже расстрелянный Пульчинелла лежит на земле. Но и сама расстрельная команда с ружьями наизготовку состоит из Пульчинелл в белых шапках. На еще одном рисунке Пульчинелла, уже без шапки, но в своей неизменной маске, висит на эшафоте, окружённом толпой Пульчинелл. Палач на коне, в белой шапке, как у Пульчинеллы, – тоже, конечно, Пульчинелла. Пульчинелла – одновременно палач и повешенный, казнящий и казнимый. Что ж, войны и революции – тоже трагифарс, чьи герои и жертвы – все как на подбор Пульчинеллы. Пульчинелла – это вечный и вечно новый простой человек.
Все Беранже в пьесах Ионеско – его двойники и в то же время они воплощают образ простого человека. Зимой 1980 года в двух небольших подвальных комнатах галереи «Frick Collection» на выставке «Детских забав» (демонстрировавшихся там впервые) я вдруг увидел великий театр Ионеско. Быть может, Профессору из «Урока», который насилует и убивает свою четырнадцатилетнюю Ученицу, следовало бы носить чёрную носатую маску и белую шапку Пульчинеллы. Быть может, Ученице, которая способна перемножать в уме многозначные числа, но не умеет вычитать, которую мучают внезапные приступы зубной боли, подошло бы не только короткое школьное платьице, но и маленькая масочка с горбатым носиком.
Быть может, Старик и Старушка из «Стульев» тоже могли бы носить маску Пульчинеллы. И конечно, Оратор, который после самоубийства стариков произносит свою последнюю речь перед пустыми стульями, должен бы носить наряд Пульчинеллы, демонстрировать брюхо и горб. В белом балахоне, как у Панча или Пьеро, и в огромной шляпе Пульчинеллы, он стал бы писать буквы на доске и жестикулировать, как глухой. В пьесе «Амедей или Как избавиться от этого» громадные ноги трупа мало-помалу проскальзывают в столовую Амедея и Магдалены. Этим трупом может быть убитый любовник или вообще прошлое. В любом случае это тоже Смерть. Но здесь Смерть присутствует только как ноги гигантского манекена. Подобно образам карнавала эта Смерть – «весёлое страшилище, которое смех создаёт, как замещение побеждённого страшного...»
«...Мы не хотим умирать, значит, мы созданы, чтобы жить вечно, и все-таки мы умираем. Это ужасно, это несерьёзно. Как прикажете относиться с доверием к этому миру, который, того и гляди, от меня ускользнёт? Я вижу Камю, вижу Атлана – и вдруг я их больше не вижу. Полная дичь. Прямо хоть смейся. Впрочем, этот предмет уже исчерпан царём Соломоном». Или так: «Мой учитель – царь Соломон», и снова: «Да, я следую за царём Соломоном, и за
Иовом, современником Беккета». Сопоставление Иова с Беккетом понятно, но каково же место царя Соломона в этой компании? «Мудрость далека от меня», – говорит Соломон в Екклесиасте. Именно эту сентенцию с удовольствием цитирует Глупость в Эразмовой «Похвале Глупости».
Царь Соломон – частый персонаж средневековых и раннеренессансных пьес, как нравоучительных, так и непристойных. Он всегда носитель ложной мудрости. Ионеско было бы по силам написать трагифарс «Соломон с Иовом рассуждают о смерти». И в этом «Диалоге о смерти» мы бы снова расслышали иронический смех Лукиана.
Смерть, которая приходит к Беранже в эпилоге «Убийцы», не говорит ни слова. Это уже не архаическая беременная Смерть, чей ужас преодолён её же способностью давать жизнь новым созданиям. Это cредневековая Смерть, приходящая с косой к простому человеку, неподкупная, неотменяемая, безжалостная. В сочинении пятнадцатого века в ответ на предложенную человеком взятку Смерть с негодованием произносит:
Не поможет тебе ничего, не надейся.
Мой приход отсрочить ни за серебро, ни за злато
Не дано ни папе, ни королю, ни герцогу, ни прелату,
Поелику большим дано мне владеть И весь мир в своей власти я буду иметь.
Я над собой не потерплю насмешки,
Не дам тебе отсрочки, пошли,
и не мешкай.
В «Убийце» Смерть молчит и Беранже вынужден за двоих поддерживать этот средневековый диалог:
«Или, слушайте, вы ведь бедны, хотите денег? Я могу подыскать вам работу, устроить на хорошее место... Нет. Вы не бедны? Богаты?
А-а... ясно, хорошо, ни бедны, ни богаты!.. (Убийца усмехается.) *
Согласно ремарке Ионеско, Убийца-Смерть «...очень мал ростом, небрит, тщедушен, на нем рваная шляпа, старый, выношенный габардиновый плащ; он одноглазый. Единственный глаз поблёскивает стальным блеском». Все фольклорные тексты настаивают на отвратительном облике Смерти. Однако в народном театре, например, в сицилийской Опера деи Пули или польском народном театре, Смерть-Скелет часто оказывается весьма забавна. В итальянском кукольном театре Смерть усердно отпиливает головы грешникам, и эти головы потом катаются по сцене на потеху публике. В польском народном театре голова царя Ирода – кочан, который Смерть срезает, как крестьянин – капусту в огороде. Смерть у Ионеско, как правило, усмехается, топя свои жертвы в водоёме Сияющего города, где она собирает урожай под нескончаемый аккомпанемент cris de Paris,** воркотню консьержек, бормотание бродяг, выкрики уличных торговцев. Усмехающаяся Смерть в пьесах Ионеско могла бы носить горбоносую маску Арлекина на белом пудреном лице Пьеро. По существу, «Убийца» – трагифарс, разыгрывающийся на городских улицах.
«Мы умираем, – повторяет Ионеско. – Это ужасно, это несерьёзно». «Смерть короля» – комедия об умирании. Это единственная современная комедия об умирании и единственная комедия, в которой главный персонаж начинает умирать с первой страницы и так вплоть до последней, на которой он, наконец, умирает. Если бы Беранже умирал на всамделишной кровати, если бы над ним скорбели всамделишная жена и всамделишная любовница, если бы его лечили и оперировали всамделишные доктора, если бы всамделишная сиделка поправляла ему всамделишные подушки, – это была бы безжалостная пьеса. Но ведь в комедии Ионеско умирающий Беранже – король.
* Здесь и далее «Убийца» в пер. И. Кузнецовой.
** парижских криков (фр.)
«Король, – писал Станислав Ежи Лец, – голый... но под роскошными нарядами», Беранже умирает в роскошных королевских нарядах. Он – король, но король сказочный, король в карточном дворце, сложенном детьми; он – король карнавального маскарада.
Беранже и не думает умирать. Это король умирает в обществе королевы Маргариты, своей первой жены, королевы Марии, своей второй жены, и Доктора, который совсем о нем не заботится, Доктора, который «хирург, палач, бактериологи астролог» одновременно. Поскольку Беранже наряжен королём, постольку умереть он может только по-королевски.
Среди наиболее традиционных карнавальных увеселений были коронация и развенчание нищего, срежиссированные с таким расчётом, чтобы этого нищего можно было потом подвергнуть поруганию, бичеванию и изгнанию. Коронация нищего на рыночной площади есть, согласно «Золотой ветви» Фрезера, след древнего ритуала, в котором ежегодно убивали заместителя короля, что должно было «воскрешать» короля настоящего. В карнавальной травестии смерть нельзя рассматривать всерьёз. Так, в утопии Рабле жители острова Ветров, умирая, испускали газы, и души их вместе с этими газами покидали тела via rectum.* В сатире Сенеки «Ludus morte Claudii»** цезарь умирает испражняясь.
В «Смерти короля» обряд умирания подвергается карнавализации. «...Мы умираем. Это ужасно, это несерьёзно». Беранже – двойник Ионеско. Король Беранже умирает для того, чтобы Ионеско не умер.
Впервые мне довелось посмотреть «Лысую певицу» и «Урок» во время их премьеры в Варшаве. Думаю, это было году в 56-м. Соответственно, с тех пор всякий раз, попадая в Париж, я отравлялся в маленький театрик на улице Юшетт, где до сих пор идут «Урок» и «Лысая певица». В последний раз, когда я был там в 1965 году, мне показалось, что Ученицу играет другая актриса. Она выглядела менее ребячливой. После спектакля я посетил Ионеско. Воспроизвожу дневниковую запись о том вечере, которая впоследствии была опубликована в «Театральном блокноте».
– Конечно, это та же самая актриса, – сказал Эжен. – «Урок» будет идти со дня премьеры еще лет пятьдесят или семьдесят. Однажды Ученица умрёт. Я имею в виду – умрёт в самом деле, а не на сцене. Она попадёт на небеса и Св. Пётр спросит её сурово: «Чем ты занималась при жизни, дитя моё?» А она ответит: «Чем занималась? Мне было восемнадцать лет, когда я сыграла роль Ученицы в пьесе г-на Ионеско в театре на улице Юшетт. Потом я была помолвлена и продолжала исполнять роль Ученицы. Потом вышла замуж. Я продолжала исполнять роль Ученицы. Потом я забеременела и на три месяца перестала исполнять роль Ученицы. Затем я родила дочь. Я продолжала исполнять роль Ученицы. Затем я развелась. Я продолжала исполнять роль Ученицы. Затем я опять вышла замуж. Я продолжала исполнять роль Ученицы. Затем у меня родился сын.
Я продолжала исполнять роль Ученицы. Затем я снова развелась. Я продолжала исполнять роль Ученицы. Затем моя дочь родила близнецов. Мне пришлось на две недели уехать из Парижа. Затем я продолжала исполнять роль Ученицы». И Св. Пётр скажет: «Г-н Ионеско заждался вас, он занят репетициями «Урока».
Ионеско посмотрел на меня, неожиданно погрустнел и прошептал: «Но это неправда, потому что я не умру».
Я верю ему, ведь он – бессмертный.***
*Через зад (лат.)
**«Фарс на смерть Клавдия» (лат.)
***Сорок членов Французской Академии, в число которых избираются наиболее уважаемые писатели страны, с XVII века до наших дней называются Бессмертными.
*Страх (нем.)
*См. Marcia Е. Vetrocq ed., Domenico Tiepolo’s Punchinello Drawing (Indiana University Art Museum, 1979).