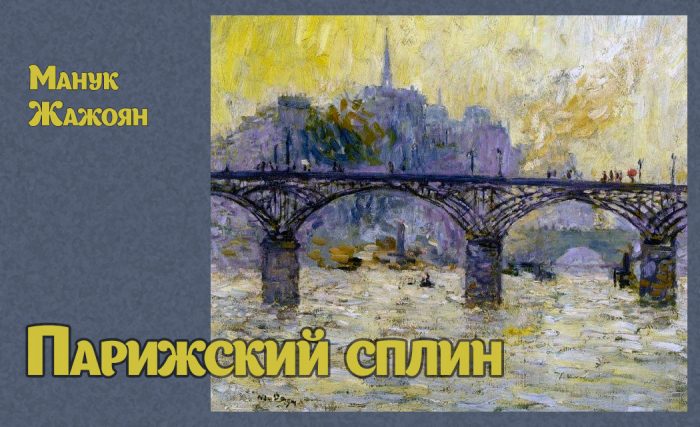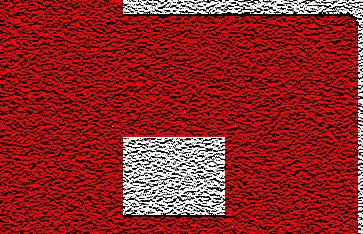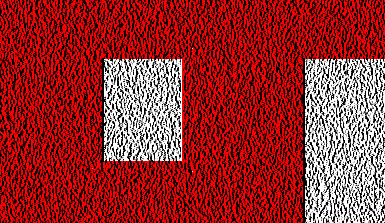(Белый): «Петербург – это сон». А Париж – это бессонница.
Сена (Река)

Большая часть образованных иностранцев, взращённых на модернизме, знают Сену по тому, что она медленно течёт под мостом Мирабо. Да, это так. У этого поляка был безупречный вкус горожанина. Он сделал знаменитым, хрестоматийно знаменитым одно из лучших мест в Париже. Для меня – лучшее. Этот мост – единственное, что исчерпывающим образом подтвердило мои предпарижские иллюзии. Разумеется, до Парижа я его представлял себе иначе (так у меня бывает почти всегда); в действительности и расположение, и облик, и атмосфера моста оказались не такими, какими я их думал застать... И все же «действительность моста» (если можно так выразиться) оказалась столь «питательной», столь чарующей, столь чуткой к иллюзиям, что я так и останусь до конца дней благодарным и этому стихотворению, и этому мосту.
Во всяком случае, под мостом Мирабо течёт река Сена, именно река, а не туристическая реалия; не сошедшая с полотен постимпрессионистов, а текущая под мостом, – река, а не художественная деталь, не «тема экскурсии». Мне кажется, парижане вообще не знают Сены, не хотят ее знать, не замечают ее. Они, вернее, не видят ее, как не видишь в комнате старых, знакомых предметов, вещей; как не видишь своей руки.
Говорят, это одна из самых грязных рек в мире. Как-то я спросил у своей подруги о городских пляжах в Париже – она не поняла вопроса. Парижане либо ходят в бассейн, либо уезжают на море. Сена же уже в X веке была непитьёвой.
Сена – это река, в которой никому и в голову не приходит выкупаться.
И все же это самая аппетитная река (на мой вкус). Вода ее манит, манит непреодолимо... Непреодолимо хочется попить из этой самой непитьёвой в мире реки...
30 апреля 1993
Поразительная минута в моей жизни – надо бы ее запомнить. Минута, когда я совершенно один. Никого из родных рядом. Ни одного друга. Ни одной подруги. Ни одного приятеля. Ни одного звонка по телефону. Никого вокруг. Только я и город. Я и Париж. Я и его тени. И его память. И моя память. Лицом к лицу.
14 мая 1993 15 ч. 10 м. (Париж)
Сегодня пришло, как прозрение во сне: любить, желать, служить можно только тому, что даётся (что есть) как благодать – бесплатно и безусловно. И тогда не будет страха. И тогда не будет предательства – ибо не будет предателей. Я с радостью, с лёгкой, чистой радостью (впервые за последние полгода я по-настоящему испытал это чувство) понял теперь, что любовь, дружба, преданность, родство – это безусловность; это когда тебе не ставят никаких условий. Или еще точнее: когда ты чувствуешь себя свободным от каких бы то ни было условий.
Люблю, принимаю тебя всегда, в любую минуту, в любом случае, при любых обстоятельствах – это и есть формула любви. И тогда она, любовь, уже не расщепляется, не детализируется, не разделяется на материнскую любовь, сыновью любовь, любовь-дружбу, эротическую любовь и т.д., – а пребывает одной, единой, всегда одинаковой, даже однообразной. Дерево, книга, мать, отец, отчий дом, сестра, небо, слово, Христос, горе, брат – все это безусловно, все это даруется; ты только помни это, принимай это, и люби это. Остальное – предаст. Возлюбленная, слава, благополучие, карьера, политика, общество, учителя, ученики – все это предаст тебя. Рано или поздно. Но и об этом знай.
19 мая 1993
Сегодня видел во сне отца. Он был избит, лицо почти изуродовано. Он лежал на земле, я опустился над ним на колени, обнял его тощее тело, прижался щекой к груди и сказал ему: «Папочка...» Впервые за свои 30 лет, и только в этом сне, я назвал его так по-русски: «папочка»...
лето 1993
Поэт – как подвыпившая женщина: его всегда надо прощать.
июнь – июль (?) 1993
Помню, как-то Марговский, сидя рядом со мной на лекции в Литинституте, долго смотрел на меня в профиль и сказал: «У тебя абсолютно безвольное лицо». Он и не подозревал, что делает мне высший комплимент.
9 июня 1993
Позавчера я ощутил физически, что значит задыхаться без музыки. Я искал по всему Парижу подходящий мне магнитофон, чтобы прослушать новые кассеты, но то оказывались закрытыми нужные магазины, то не оказывалось того, что я искал. И я начал осознавать, чувствовать кожей, ее зудом, что свихнусь, если в ближайший час не услышу этой музыки. Я уже был готов купить первое, что попадётся под руку. Так, наверное, чувствует себя наркоман.
9 июня 1993
Сегодня в Париже Праздник музыки. Весь город на улице: прямо в кафе расположились любительские, полупрофессиональные рок-ансамбли; на мосту Искусств было более людно, чем на других мостах: и прямо на мосту подавали водку с апельсиновым соком, за 10 франков, после которой разгорячённые, полупьяные девочки одаривали какую-то пошлую рок-группку взглядами и хлопками более благосклонными, чем те заслуживали. Парижане – благодарные слушатели: писают кипятком от всякой туфты. Я прошёл через Лувр и вышел в Пале-Рояль; там играл оркестр – какую-то симфонию Брамса. Не успел узнать, какую: когда я вошёл в сад, они уже играли. Больших меломанов, чем парижане, я не встречал – это наиболее роднит их со мной. За это я люблю их больше всего. Весь Пале-Рояль был переполнен; многие держали детей на плечах; в Париже даже дети слушают Брамса. Почти все дослушали симфонию до конца. Когда дирижёр, после четвёртого выхода на аплодисменты, взял первую скрипку за руку и потянул за собой, к выходу, и за ними поднялся весь оркестр, поднялся страшный вой и свист; музыканты, уходя, виновато оглядывались и пожимали плечами. Прелесть!
21 июня 1993
В последнее время, может быть, в последние годы я очень остро чувствовал, что во мне исчезает самое главное, то, что было больше всего МНОЙ. Но я не мог определить, что?. И только вчера понял... Во мне исчез миф. Это невероятно, это провал, погибель. Я больше не могу обнимать деревья, давать клятвы камням, любить фонтаны... Во мне исчезло детство. И ничего не пришло на смену. Детство было единственной реальностью, которой я доверял. Которой я придавал смысл. Миф – это и есть детство.
28 июня 1993
«Любители музыки» считают 9-ю симфонию «преодолением страдания», – особенно имея в виду «Оду к радости». И не понимают ведь, что в нем никогда не было «страдания», – в нем было всегда только одно – Красота. А 9-я – это как раз если и преодоление, то преодоление Красоты. Преодоление Красоты и есть Бог. Только теперь я понимаю окончательно слова Гиллельса о его 29-й сонате: «Долго я не брался за исполнение этого музыкального Ганга, пока не понял, куда же он течёт».
4 августа 1993
Анализ поэзии изначально бессмысленен, ибо поэзия – не литература, поэзия – это кровь. Есть анализ крови. Но в том-то и дело, что поэзия – не медицина.
5 сентября 1993
Я – вечный Орфей, вечно оглядывающийся Орфей... И вы – вечные Эвридики, вечно исчезающие Эвридики.
8 сентября 1993
Россия и Армения долго смотрели друг на друга, долго стремились друг к другу, и только во мне они соединились, разные, равновеликие, так, как не соединялись еще ни в ком: они соединились в любви. Так любить одновременно Россию и Армению могу только я. Это шло еще от моих родителей (и от матери, и от отца), и окончательно завершилось во мне.
9 сентября 1993
«Поэзия – это осознание своей правоты», – говорил Мандельштам. Как утешительно, как сильно! И однако, и все-таки, поэт не тот, кто всегда чувствует себя правым, а тот, кто в конце концов все равно оказывается прав.
17 сентября 1993
И еще раз спрашиваю: чьё покровительство благотворнее – Артемиды или Афродиты? Чья кара суровее, чья месть острее? Кто чувствовал себя счастливее – Ипполит или Парис? Кто несчастнее – Нарцисс или Актеон?
21 сентября 1993
Я никогда не чувствовал к Бродскому той истеричной любви, какую чувствовало к нему моё поколение. Он совершенно не оказал никакого влияния на меня. Я понимаю, что это несправедливо. И все же – что бы ни случилось потом с его славой, я навсегда останусь благодарным ему за стихотворение, равное которому очень трудно найти в лирической поэзии. Стихотворение это – «Любовь». И строка оттуда: Ты снилась мне беременной... Ничего мне больше не нужно от Бродского. Этого – достаточно. (Да, и еще его Нобелевская лекция.)
13 марта 1994
Одиночество – это одиночество памяти. Это – тяжесть памяти, сознание того, что ты несёшь ее один. Если бы мы были уверены, что кто-нибудь разделяет с нами эту тяжесть, в нас бы не было одиночества.
27 марта 1994
«Ведь вся моя жизнь – это непрерывный разговор с тобой», – писала Цветаева Пастернаку. Да, в этом и есть тайна любви. Любишь того, с кем непрерывно говоришь издалека, в мыслях, наедине с собой. Это как язык, на котором думаешь, – он всегда один. И любовь всегда одна.
30 марта 1994
Париж (эмигрантский Париж, «наш» Париж) кошмарен тем, что в нем отсутствует повседневность, будничность. Словно ты не удостаиваешься ее, словно у тебя нет права на неё. Воистину это «праздник, который всегда с тобой». Да, но я не терплю ни week-endов, ни праздников. Я не терплю праздников, которые всегда.
2 апреля 1994
Французы: самые остроумные тупицы, самые поверхностные мудрецы, самые образованные невежды, самые любезные хамы.
5 мая 1994
Смысл проституции скорее не в том, что секс продаётся за деньги, а в том, что сами деньги в своей природе глубоко сексуальны; они имеют очень выраженную эротическую сущность.
5 мая 1994
17 мая в парке на champs-élysées у меня украли портфель, в котором были все мои документы, все деньги и две записные книжки. Восстановление первых двух ценностей не в моих силах – и разговор об этом неинтересен. Восстановить же записные книжки я постараюсь, ибо моя писанина – единственное, чем я реально обладаю и что является единственным оправданием моей карикатурной жизни. Записные книжки начинались с мая 93-го года и длились ровно год, но записей в них было не так уж и много. Кое-что оттуда я помню дословно, кое-что не совсем чётко. Впрочем, есть даже повод радоваться пропаже этих блокнотов, и удачливый португалец, спёрший мой портфель, невольно оказался моим редактором и цензором, ибо некоторые записи в тех блокнотах (типа «Звуки Вагнера льются в меня...» и т.д.) вполне заслуживали того, чтобы быть украденными португальцем. У меня есть привычка датировать записи, но, понятно, не все даты я помню даже с точностью до месяца и поэтому буду датировать только то, в чем уверен. Остальное же буду вспоминать вразброс и без всякой хронологии. Итак, май 93 – май 94.
22 мая 1994
Сегодня поселился в Медоне. Здесь некоторое время жил Рильке у Родена. В пяти минутах ходьбы – Кламар. Там жила Цветаева. Что ж, эти две тени, давно уже соединённые в моей «памяти сердца», соединились во мне, пересеклись и географически. Я же говорю, мне всегда везло на литературные совпадения.
11 июня 1994
Полжизни я сетовал на то, что у меня нет своего рабочего кабинета. Судьба очень щедро вознаградила меня: она сделала моим рабочим кабинетом Париж.
11 июня 1994
Где-то с полчаса пристально разглядывал цветы в сквере, выходящем на rue Vaugirard. Я так и не понял, что это за цветы (я очень слаб в ботанике). Но в этом моем всматривании было что-то натянутое и вымученное: мне просто захотелось уподобиться Прусту... Я не чувствовал их никак, не ощущал их жизни, тайны их цветения. И только в эту минуту я понял, что искусство – это не ботаника и не «вчувствование», а беспредельная, близкая ко греху гордыни, свобода... Свобода смотреть на цветы, смотреть на них без корысти, не зная их названий, свобода именовать их по-своему, и по-своему описывать их недолгий век и их речь. Да, искусство – это беспредельная свобода и ничего больше. И еще – несмертный грех гордыни. Беспредельная свобода и тоска. Беспредельная свобода и беспредельное отчаяние.
11 июня 1994
В саду Родена. Он словно разделён невидимыми линиями на две чуть ли не враждующие половины: статуй и посетителей. Где статуи – истинные обитатели и истинные хозяева. Во всяком случае, они гораздо живее и значительнее посетителей. Возможно, в этом контрасте и заключался изначальный смысл размещения статуй в саду – в предельной и невероятной близости к посетителям. Едва ли не в насмешку над ними. На одной из скамеек я обратил внимание на двух девушек, сидевших очень близко, прижавшись друг к другу (то ли сестры, то ли лесбиянки), и разглядывающих «la meditation». Мне показалось, что они вполне смотрелись бы как статуи – очень подходящие модели для Родена. Но они, бедняжки, этого не знали. Снова пошел дождь, статуи мокнут. Мыслитель, Бальзак, Гюго, «Три тени»... Но остаются на своих местах. В окаменевшем напряжении, съёжившись (от вечных парижских дождей?), в том молчании тела, которое и есть речь пластического искусства и которое только и может соперничать с поэзией, а часто – и превосходить ее.
11 июня 1994
Этот сад – единственное место в Париже (и, может быть, в мире), где искусство победило действительность. Где оно достовернее действительности.
11 июня 1994
Самое могущественное на свете – это прошлое. Единственное, против чего мы бессильны. Прошлое – это земля, за которую борются два смертельных врага: забвение и память. Иногда побеждает забвение, но это – пиррова победа. Память же не знает поражений, ибо память и есть жизнь. Память не знает смерти, она лишь засыпает, но сон ее удушлив и тягостен, как послеобеденный сон. Просыпаясь, мы уже не приходим в себя. И вечер испорчен. Однако есть люди, которые презирают послеобеденный сон. Существование таких людей опасно для большинства, нормальная жизнедеятельность которого возможна благодаря лишь способности забвения. При торжестве памяти, т.е. при торжестве прошлого, жизнь была бы невыносимой, иными словами – она была бы искусством.
13 июня 1994
Моя мизантропия не имеет сущностного характера, а относится скорее к физическим состояниям, или, точнее, положениям, позициям человека. Мне неприятен человек, когда он, например, ест. Или сидит. Мне неинтересен человек поющий или рисующий. Меня раздражает человек смеющийся. Мне неуютен человек плачущий. Скучен человек играющий. Мне смешон человек думающий. Мне отвратителен человек трудящийся, человек совокупляющийся. Тошнотворен спортсмен. Меня всегда тянет отвернуться при виде человека танцующего. Мне даже безразличен и утомителен человек читающий. И только двоим я готов все простить, только двоих я люблю: человека спящего и человека пишущего.
21 июня 1994
9 июля был в музее Пикассо. Все время спрашивал себя: что с ним случилось к 1907 году, и вообще как мог случиться переход от «Девочки на шаре», «Свидания» (одно из самых сильных моих впечатлений от живописи) – к тому, что обыватель называет «кубизмом»? «Les Dеmoiselles d'Avignon» еще прекрасны, но потом!.. Ни с одним художником не случалось такой невероятной метаморфозы. Впрочем, дело не в нем. А в той дурной и порочной независимости, отдельности, отчуждённости творения от творца, которая могла родиться только в XX веке и которая являла собой гениальность этого века. Джойс, Беккет, Пикассо – они именно гениальны, хотя и порочны. Они именно порочны, хотя и гениальны. Слова Пикассо о «Гернике»: «Это не я, это вы...» Вот – формула этой отчуждённости. Как и Пикассо – самый грандиозный ее памятник. Кого-то она вообще не коснулась (Пруст, Бунин). Кто-то сумел избежать ее (Рильке, Роден, Модильяни). Это – не осквернившиеся...
10 июля 1994
Жизнь мне доставляла не так много счастливых минут. Но я не могу быть неблагодарным к ней: она мне дала возможность писать о Бодлере у его могилы.
Париж, 16 июля 1994, кладбище Монпарнас
Публикация Анны Пустынцевой