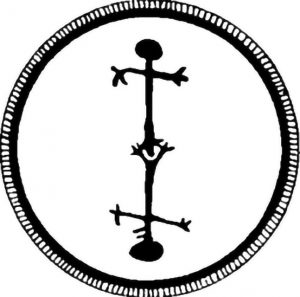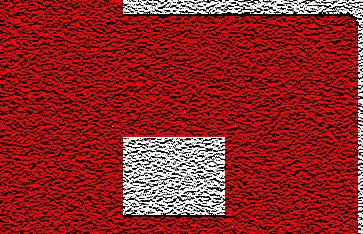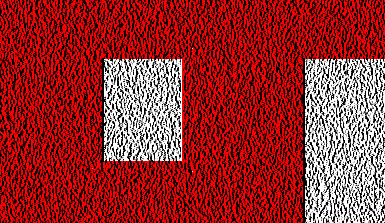Манук Жажоян
Сорок тысяч братьев
Жажоян Манук Людвигович (1963 - 1997, Петербург)
поэт, журналист. Родился в Ленинакане, закончил школу в Ростове-на-Дону, учился в Ереванском университете, затем - в Московском литературном институте на кафедре стилистики и русского языка по специальности «переводчик художественной литературы». С октября 1992 г жил в Париже, постоянный автор газеты «Русская мысль». В 1997 г. издал единственную книгу стихов «Селект» (Париж). В ночь с 29 по 30 июня 1997 г. был сбит машиной на Невском проспекте в Петербурге, куда он приехал для продления французской визы.
«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песне, кроме сих ста сорока четырёх тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим» (Откровение 14, 1-5).
Но ведь это те «запечатлённые» 144 тысячи, из другой, 7-й главы Откровения, из всех колен сынов Израилевых. Которые «пришли от великой скорби». Все ведь совпадает: и старцы, и животные, и престол — и число! Правда, при этом может сложиться довольно двусмысленное впечатление, что не оскверниться с жёнами значит прийти от великой скорби, и все же — запомним это число.
Однако вопрос: а где, собственно, «жены»? Девственники спасены, а девственницы?
Признаюсь, чтение Апокалипсиса всегда было неуютно для меня, как и вообще чтение аллегорических текстов. И кроме слов «звезда светлая и утренняя» и «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний», эта книга не впечатляет меня; и при всей своей «дюреровской» мощи панорамы не может сравниться для меня с пустынным целомудрием синоптических повествований.
И единственное, перед чем холодеет рассудок (во всяком случае, мой), это числовая изобретательность иоанновского воображения, жгучая цифирь его видений.
В самом деле, кто-нибудь задумывался над тем, что значит увидеть на ограниченном пространстве сто сорок четыре тысячи человек, что значит прозреть в видении точное число?!
Уже одного этого достаточно, чтобы уверовать в реальность Откровения именно как откровения, без символических наслоений, без аллегорической предвзятости.
Но с течением времени, с ходом веков художественные способности человека слабеют; той, иоанновской, имажинативной дерзости (в том числе и «числовой») уже не встречаешь — но еще у Шекспира она на высоте:
I lov'd Ophelia: forty thousand brothers
Could not, with all their quantity of love,
Make up my sum.
(«Hamlet»)
Цветаева попыталась подхватить это число, словно тяжесть с плеч:
— Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
(«Диалог Гамлета с совестью»)
Но уже не смогла осилить ее, попыталась «уравновесить»:
— Но я ее любил
Как сорок тысяч...
— Меньше,
Все ж, чем один любовник.
Оказывается, Гамлету приходилось (по версии Цветаевой) состязаться не только с вполне конкретным Лаэртом, но еще и с каким-то «любовником» ее, абстрактным, манерным модернистским «дополнением».
Ахматова же заранее отказалась от соперничества с Иоанном и Шекспиром и выбрала тяжесть по силам:
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестёр.
(«Читая «Гамлета»)
![]()
Ровно в тысячу раз меньше...
Итак, он ее любил? Как он ее любил, эту бедную Офелию? Мы не сможем ответить. Мы уже не поймём, не разгадаем этой любви, мы уже не научимся ей, как не сможем научиться той «как бы новой песне» из уст «ста сорока тысяч»...
«Выходи за меня», — говорим мы.
«Иди в монахини», — говорит он. Жестоко? Да, жестоко. Хотя кто знает? Если бы не было монахинь, не было бы и «португалки» (так называл Рильке) — Марианны Алькофорадо. Рильке перевёл ее «Португальские письма», как и 24 сонета Луизы Лабе. Рильке, как никто другой, понимал поэзию женщин.
И все-таки — как? Как он ее любил? Как сорок тысяч братьев? Или как сто сорок четыре тысячи девственников? Снова созвучие чисел? Возможно, отдалённое и случайное.
Созвучие чувств? Созвучие песен? Ведь песен Офелии тоже никто не понимал, «никто не мог научиться» им, этим песням.
Это одно и то же — братья и девственники. В «шекспировском» цикле Цветаевой слово девственник — ключевое.
Девственник! Женоненавистник! Вздорную
Нежить предпочедший!.. Думали ль
Раз хотя бы о том — что сорвано
В маленьком цветнике безумия...
(«Офелия — Гамлету»)
Принц Гамлет! Довольно царицыны недра
Порочить... Не девственным — суд
Над страстью. Тяжеле виновная — Федра:
О ней и поныне поют.
(«Офелия — в защиту королевы»)
Да, Гамлет — в числе 40 тысяч, 144 тысяч, он — сумма 40 тысяч, больше этой суммы...
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут...
Куда там одному Лаэрту, одному брату тягаться с ним! Ведь и в последнем поединке, роковом для обоих, победил все-таки Гамлет...
Братская любовь изначально и априорно — любовь девственника. (Инцестуальные проказы оставляем в стороне.)
«...Заменить плотскую любовь чистыми отношениями брата и сестры», — писал Толстой в послесловии к «Крейцеровой сонате». После этой повести «проблемой пола», «брака и семьи» (даже в случае великого Розанова) можно было уже не заниматься — она была решена Толстым целиком и исчерпывающе. Рассказывают, что один ревностный читатель (кажется, румын) оскопил себя после прочтения «Сонаты». Бальмонт прочёл ее — и выбросился из окна. Разбиться не разбился, но с женой развёлся в скором времени.
Вот и говори после этого, что искусство не несёт практической ценности.
Во всяком случае, «мысль семейная» в «Крейцеровой сонате» выражена острее и чётче, чем в «Анне Карениной». «Каренина» завершилась смертью, «Соната» началась со смерти — вот в чем разница.
Да и итог собственной семейной жизни Толстой подвёл двумя словами: «Брак — погибель».
«Заменить плотскую любовь чистыми отношениями брата и сестры». Брата и сестры. Аполлона и Артемиды. Вечной девственницы Артемиды.
Я вряд ли ошибусь, если скажу, что наиболее широкую сферу употребления слово «сестра» имеет в армянском языке — «ф...р». Так может обратиться в Армении любой мужчина к любой женщине, желательно ровеснице (начиная с собственной сестры и кончая случайной прохожей). Армяне вообще родственные отношения предпочитают всем остальным, и от этого «социальность» они строят по принципу «родственности», уподобляют социальность родственности. Строго говоря, «социальности» в Армении в прямом смысле этого слова нет, поскольку социальность как таковая обычно предполагает сообщество чужих людей... Социальность и семейственность — две вещи трудносовместимые; в семейном кругу (если он истинно таков) отсутствует «социальность», и поэтому члены одной семьи обычно не устанавливают в отношении друг друга фиксированных правил, а живут и сообщаются, прислушиваясь к току общей, единой крови...
И хотя в Армении эта «семейственность» часто напоминает щедринское «по-родственному», все же семья — альфа и омега армянского этнопсихологического уклада, и понятие «семьи» там — из области даже не этики, а онтологии.
В Армении недостаточно быть частью нации, надо быть «сыном народа». Недостаточно быть соотечественником, надо быть «братом», «сестрой».
Такое с трудом представимо в России, невозможно во Франции, абсурдно в Америке.
И не потому ли армянское «ф...р» почти что лишено тех фольклорных, поэтических, иронических, арготических, стилистических оттенков, как, например, русское («сестра», «сестрица», «сестрёнка», «сеструха»), оно даже совершенно свободно от церковных смыслов. Я был свидетелем того, как один парижский нищий обратился к молоденькой монашенке — «madame». «Mademoiselle», — недоуменно, но учтиво поправила монашенка. «Oh pardon... mademoiselle...» — поправился клошар. «La soeur» (1) — сделала последнее уточнение монашенка.
Мне вспоминается строка из одного исаакяновского стихотворения в переводе Блока: «Милый друг сестра, брат твой в бой пошёл...» Мне вспоминается, как я, прочитав впервые эту вещь в русском переводе, «споткнулся» именно об эту строку. Русский читатель должен будет воспринять и эту «сестру», и этого «брата» буквально — таковы эти слова в данном русском поэтическом контексте. Хотя Исаакян в оригинале под «братом» и «сестрой» мог иметь в виду все что угодно: возлюбленных, любовников, обручённых, романтических друзей и т.п.
Тут дело не в «теории перевода» — в философии любви.
В Армении не поймут, что такое «вечная женственность». В Армении не поймут, что такое «незнакомка». Само слово «незнакомка» звучит по-армянски предельно искусственно. Чаренц хотел привить «вечных жён» и «незнакомок» армянской поэзии, но даже он, символист из символистов, не смог обойтись без конкретики, хотя бы цветовой. «Бледнопечальная дева», «голубая дева» — дальше этого Чаренц не пошел. Он только менял цвета.
«Голубая»... «Синяя»... «Огненная»... «Бронзовая»... «Бронзовая моя сестра, бронзовая моя сестра, бронзовая моя невеста» — есть у него такая строка.
...Ах, эти сестры, эти две сестры, эти три сестры, эти сорок тысяч сестёр!..
Меня очень трудно убедить в том, что есть в мире язык, в котором это слово — сестра — было бы неблагозвучным.
Шесть звуков, из которых четыре (!) согласных — а как звучит!
Да, бывают и фонетические чудеса. Бывают и чудеса сексологии. Сам факт того, что два разнополых существа, брат и сестра, изначально воздерживаются друг от друга, не может не быть чудом. Не природа, но культура. А обратное? — Кровосмешение?
Лучшие страницы мировой литературы — о кровосмешении. Глава о Лотовых дочерях — об этом. Лучшая вещь Софокла — об этом. Лучшая вещь Еврипида — об этом. Лучшая вещь Шекспира — об этом. Лучшая вещь Байрона — об этом.
Как может брат все-таки вожделеть к сестре (сестра к брату)? Эти два чуда, как и полагается чудесам, непостижимы. Эти два чуда — едва ли не равносильны: с одной стороны, абсурдное, и в этой абсурдности только человеку присущее равнодушие к другому полу, и с другой — тёмное, пугающее, пахнущее серой вожделение к единокровной плоти...
Инцестуальная связь мимолётна и фантасмагорична, как эротический сон, и, вспрянув от него, мы не слишком виним себя...
Брак, если угодно, есть синтез этих двух чудес. Он всегда, почти всегда, рано или поздно приходит к своеобразному «толстовству» и «крейцеровым сонатам», а говоря проще: к телесному равнодушию друг к другу.
Хорошо, но как все это совместить с браком, с супружеской четой?
Здесь, как нельзя кстати, та «привычность», о которой мы говорили выше. Жена — женщина столь же привычная, как и сестра. Есть даже анекдот, в котором жена сравнивается с бабушкой в смысле сексуальной привлекательности.
Невестам и новобрачным нелегко будет читать эти строки. Но чем раньше, чем крепче и чем спокойнее они поверят им, тем спокойнее и крепче будет их брак.
Тем же жёнам, которые не захотят поверить, жёнам, не утратившим иллюзий, я советую заглянуть в преддремотное воображение своих мужей. Это тяжёлое испытание. Оно уныло, как горькая правда. Оно небезопасно. Но оно неминуемо. Единственное, на что стоит надеяться, так это на то, что преддремотные картины развеются, рассеются к утру...
Есть две категории женщин, которые сковывают (или парализуют) сексуальность. Это романтические возлюбленные и жены.
Значит, остаётся третья: любовницы. С ними — можно. Но вот в чем проблема: любовница — это либо романтическая возлюбленная в прошлом, либо жена в будущем. Однодневки не в счёт. Они скучны, как уценённый порножурнал. К тому же там нет сексуальности, там преимущественно семяизвержение.
Существует глупейший афоризм: «Брак — это узаконенный разврат». Он глуп хотя бы тем, что в нем отсутствует логика. «Узаконенный разврат» — неудачный оксюморон; этимология слова «разврат» никак не контактирует с «узаконенностью».
А брак требует жёсткой логики. Ведь брак — это инстинкт, но инстинкт, повторяем, не природы — инстинкт культуры. «Брак — это любовь без иллюзий», — записал Камю в дневнике. Хочется сказать мягче: брак — это любовь после иллюзий.
А как же быть с сексуальностью? А нет ее. Ибо ее нет, как детей Рахили. Сексуальность и есть те самые «иллюзии», которые предшествуют любви и в нелепом, роковом заблуждении принимаются за саму любовь.
О сексуальности вспоминают, когда больше нечего сказать. Сексуальность — это вечная отговорка. А равнодушие, может быть, и есть любовь? Брачная, братская?
Может создаться впечатление, что я полностью отождествляю супружескую чету (муж — жена) с родственной (брат — сестра). В известной мере это так, но разница в следующем.
Во-первых, от братьев и сестёр, слава Богу, не рождаются дети.
Во-вторых. У жены и у сестры разные тела.
Вообще мы совершенно наивно и ошибочно полагаем, что тела одинаковы и отличаются друг от друга только тем, что одно тело красивое, другое уродливое, одно — живое, другое — мёртвое, одно — женское, другое — мужское, одно — до боли знакомое, другое — чужое, одно — мягкое, другое — жёсткое, одно — молодое, другое — старое и т. д.
Так обычно проходят дилетанты по картинной галерее: эта картина красивая, а эта некрасивая; эта картина мне нравится, а эта не нравится; эта картина Рубенса, а эта не Рубенса...
Чуть более искушённые скажут так: эту картину я понимаю (чувствую, ощущаю), а эту не понимаю.
Следующий уровень: эту картину я вижу, а эту не вижу. Тот, кто скажет так, уже не дилетант.
Так и с телами, ведь они тоже не от природы, а от культуры, от творчества, и хорошо бы каждому из нас повесить на шею дощечку с надписью: «Ne touchez pas, s'il vous plait». (2)
Можно срывать плоды с дерева, можно отдыхать в его тени, можно сморкаться в его листву. Это — от природы.
Можно любоваться деревом, можно сожалеть о том, что оно засохло. Это — от человека.
Но можно чувствовать дерево, осознавать его, видеть его, тосковать по нему, вступать с ним в игру. Это уже от поэта, от живописца... Это — от творца, ибо это уже мифотворчество.
Древние имели привычку совокупляться с деревьями — в них было больше поэзии, чем во всех наших библиотеках, вместе взятых.
Мы по-разному видим человеческие тела. Вернее, на каждый тип тела у нас есть особая, законченная и замкнутая в себе психофизическая реакция; мы просто не успеваем проследить ее, уследить за ней... И поэтому не осознаем ее. А зачастую и не подозреваем о ней.
У сестры (и вообще у кровных родственников) нет тела — это самое главное. Они настолько близки к нам, настолько стоят вплотную, что мы уже не видим их, этих тел, не видим ничего, кроме лица — как в поцелуе. Они окружены столь огромным количеством мельчайших и так хорошо знакомых нам подробностей, воспоминаний детства, они окрашены в столь многочисленные цвета, высвечены столь тонкими оттенками, что теряются во всем этом. И даже теряются не они, а теряемся мы, и нам не хватает уже ни сил, ни желания освободить их в нашем воображении, в нашей памяти от этих «наслоений» и «частностей», ибо эти частности нам как раз дороже всего, ибо без них нет родства...
Если продолжить наши «живописные» аналогии, то тело (или, выражаясь проще, психофизическая конституция) кровных родственников и, в частности, сёстры соответствует иконе, оно иконично. В той степени, в какой иконическое изображение можно соотнести с реальным, «объёмным» человеческим прообразом, в той степени тело сестры (брата, матери, отца) соотносится с реальным человеческим телом как таковым.
Реальным! Это то слово, которое я искал. Выше я не совсем корректно выразился, сказав, что у сестры нет тела. Суть не в том, что его нет, а в том, что оно для меня, брата, нереально. Ведь и икона тоже нереальна. Во всяком случае она никак не из области реалистической эстетики. Икона символична, икона и есть чистый символ.
Икона будет непонятна, она ничего не скажет уму и сердцу, если не знать Евангелия. При Евангелии же она станет не то что понятной — сакральной.
Так и тело может стать символом.
«Евангелие» родства — это детство, и без детства не было бы родства.
Если бы у братьев и сестёр не было общего детства, они бы не были братьями и сёстрами. Встреться они впервые в зрелости, они непременно (или с большой долей вероятности) пожелали бы вступить в те специфические отношения, которые принято называть «отношениями между полами». Но, к счастью, так бывает редко, и для большинства братьев сестры, в сущности, бесполы, бесплотны.
И потому (?) отношения брата и сестры — лучшие среди всех остальных типов человеческих отношений.
Как авгуры, они живут каждый своей жизнью, и только встречаясь, не могут смотреть в глаза друг другу без смеха.
Они что-то знают, что-то такое, чего не знает больше никто...
* * *
Супружество до сих пор воспринимали и долго еще будут воспринимать как обладание. Обладание чужим характером, телом, судьбой. Есть особого рода тщеславие, которое заключается в том, что сама возможность считать чужую руку, ухо, плечо или что-нибудь еще своими поднимает человека на головокружительную ступень самоутверждения и довольства. «Ты мой (ты моя)», — говорим мы с такой энергией и напряжением, с такой уверенностью, что это «мой» надламывается, меняет своё качество, перестаёт быть притяжательным местоимением, теряет даже последние черты прилагательного и безнадёжно субстантивируется.
Однако в этом «ты моя» нет все же непростительного насилия, это самая мягкая и, быть может, самая благотворная из тираний. И необходимо всегда идти навстречу этому насилию (будь то мужчина или женщина), всегда потворствовать ему, потому что без этого насилия нет брака и нет «единой плоти».
Ибо измена и разрыв начинаются задолго до их реального воплощения, а именно тогда, когда он (или она) забирает назад своё тело, точнее, отбирает его у неё, «борется за свободу», за «самость», делает его снова своим собственным. Но, не зная уже как с ним обращаться (попросту забыв), вручает его в скором времени другой (другому).
Но и супружеское обладание, в сущности, метафорично.
А все же что мы имеем в виду (говорю от лица мужчин), когда считаем себя «обладателями» чужого женского тела — тела жены?
Собственно, «ничего предосудительного», как говорил принц Гамлет. Это вполне невинное обладание. Потому что ничем конкретным (вещественным) и реальным (снова это слово) мы и в этом случае не обладаем. Мы сами созидаем своих жён и их тела. Миф о Пигмалионе — достоверен, удручающе достоверен.
Создаём — претенциозное слово. Да и речь не о создании, а о метафоризации. Если мы и обладатели, то только лишь образа.
Мужья обречены быть портретистами, причём это очень удобные портретисты: им не надо позировать.
Они справятся со своим делом без модели. Нередко бывает так, что портрет предшествует модели, образ — прообразу. Портрет «опережает» модель. Этот случай самый рискованный, но если все-таки совпадение произойдёт, сходство установится, состоится, тогда произойдёт еще одно чудо.
В самом деле, в какой мере художник является обладателем изображения на холсте? Сюжет, образы, ассоциативные сцепления, интонация, игра теней — все то, что составляет содержание живописи (и содержание супружеской жизни), есть результат столь сложного и запутанного пути, растёт из такого сора, что уже невозможно назвать вещи своими именами, уже невозможно определить, что искусственно и что естественно, что «моё» и что «твоё»...
Тело жены — это образ и метафора, и поэтому мы уличаем в измене так, как уличаем в плагиате, — ревностно.
И подумаем теперь, насколько серьёзно можно воспринимать вожделение к изображению на холсте? Увидеть в опытах Рубенса и Модильяни лишь повод к половому раздражению значит безвкусно ущемить, безнадёжно профанировать их.
Сестра — икона — символ.
Жена — картина — образ (метафора).
(...) Тело любовницы кинематографично с головы до ног, от корней волос до конца ногтей.
И вообще, что такое любовница? Вы сидите в кафе (или едете в метро), и вдруг — взгляд, еще взгляд, полуоборот, вы начинаете всматриваться в неё, она уводит глаза в сторону; она всматривается в вас, вы опускаете глаза; она как бы собирается уходить, но вроде бы и не собирается, лоб у вас начинает покрываться лёгкой испариной, она начинает чаще дышать; вы понимаете, что время, что пора встать и подойти, но голос ваш еще дрожит, вы кое-как справляетесь с дрожью, придумываете наспех первую фразу, подходите: «Простите, сударыня (мадам, мадемуазель), но мне показалось, впрочем, я могу и ошибаться, и все же мне показалось, что я могу предложить вам une petite promenade... (3) Я не хочу быть навязчивым, но...» — «А почему это вам так показалось?» — «Ну, не знаю... Можете считать это маленькой дерзостью с моей стороны». — «Да это не маленькая дерзость, это просто хамство!» — «Ах, простите, простите...» — «Впрочем, мне в ту сторону, если вам по пути, можете меня немножко проводить...», ну и т.д.
Затем — чай, кофе, коньячок, «дай-ка я посмотрю твою руку», «а у тебя много было женщин до меня?», ну и т. д.
Затем — утреет, с Богом, по домам...
Как в кино.
Ведь в кинематографе время сжимается, катастрофически сжимается, как в половом акте, как в эпилептическом припадке.
В кино возможно все. И с любовницей возможно все: ничего общего в прошлом и, чаще всего, в будущем. И нет будней, нет повседневности, которая одна и создаёт общий язык, общую семантику и общую жизнь. Сплошной праздник, который всегда с тобой. Всего два-три часа. Целых два-три часа. Как в кино. Никто ничего не узнает, никто ни о чем не напомнит, никто ни в чем не упрекнёт. Светящийся экран впереди и темнота вокруг. Можно делать все. И (тише, идёт фильм) ни о чем не надо говорить. Великий Немой.
* * *
Я хочу быть правильно понятым: я не призываю перестать «делать любовь», как говорят французы. Я просто советую, вслед за Клайвом Льюисом, делать ее с юмором.
В самом деле, что может быть тошнотворнее той натужной, как на похоронах дальнего родственника, плебейской серьёзности, с которой обычно делается любовь! Можно понять страсть, можно понять трепет, можно понять окоченение, оцепенение, стенанья, крики вакханки молодой, можно понять холодный пот и обморок, но — понять серьёзность в любви?!..
Она тоже — от кино.
Возможно, это тоже эстетика.
Уже совсем другая эстетика.
* * *
В «отповеди» Онегина Татьяне есть слова, по недоразумению уже истрёпанные, как пословица: «Я вас люблю любовью брата / И, может быть, еще нежней». А ведь в них — весь фокус этого печального романа. В них — весь Онегин, в них — вся Татьяна.
Более того, это единственная на протяжении всей книги умная фраза из уст Онегина.
Но как он ее произнёс!..
Вся водевильная мерзость так называемой «любви», вся кухонная сальность сексуальности, вся доморощенная инфернальность пола, все эти подростковые, прыщавые, школярские преувеличения, весь этот генитальный фарс — все это с предельной полнотой выразило себя в онегинской интонации.
«Я вас люблю любовью брата / И, может быть, еще нежней» — это пушкинские слова, так мог сказать только Пушкин. Онегин же — попроще, он бы выразился иначе: «Конечно же, Танечка, вы мне очень милы и симпатичны, и я к вам даже успел привязаться за это время, но видите ли, то, что я к вам испытываю, это не то чувство, которое можно назвать любовью, вы, надеюсь, понимаете меня? То, что я к вам испытываю, этого недостаточно для того, чтобы...», — ну и т.д. Пушкин польстил Онегину, он вложил в его уста слова, на которые тот в принципе не был способен.
Какое представление мог иметь этот пряничный Чайльд-Гарольд об «я вас люблю любовью брата»? Гамлет знал, что это такое. Байрон знал. Пушкин знал. Но Онегин! Это уже too much. (4) Ему бы понять, прозреть, что это «я вас люблю любовью брата и, может быть, еще нежней» — это то самое, то, что нужно; что больше этого, дальше этого, чище и острее этого уже ничего не будет, ибо быть не может.
А ведь он все-таки это понял. Нет, напрасно я недооценивал Онегина.
* * *
Один из самых напряженных (и отрадных) эпизодов в Евангелии от Марка (он повторяется и у Матфея, и у Луки) следующий:
«Потом пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его, говоря: Учитель! Моисей написал нам: «если у кого умрёт брат, и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмёт жену его и восстановит семя брату своему». Было семь братьев: первый взял жену, и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей; также и третий. Брали ее за себя семеро, и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою.
Иисус сказал им в ответ: этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо, когда из мёртвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы на небесах».
У Луки есть небольшое «добавление» (этой фразы нет в тех двух Евангелиях): «Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж...»
Теперь понятно.
Да, эпизод острый, острее некуда. Казалось, Спаситель прижат к стене: саддукеи знали, как прижать к стене. Их вопрос был разработан с остроумием и изощрённостью необычайной. Струна, соединяющая тот и этот мир, безвыходность жизни и робкую, слабую надежду, трагизм брака и трагизм смерти, — была натянута в этом саддукейском вопросе до горячего звона.
В теоретической физике есть задачи, не имеющие решения. Этот вопрос тоже не имел решения. По крайней мере «земного», человеческого решения. Иисусу же было не до теоретической физики. Он знал ответ задолго до вопроса. И вынося этот ответ, это решение за земные пределы, Он не совершал «скачка», в котором Камю так упорно упрекал предшествующих ему экзистенциалистов. Иисусу незачем было совершать «скачок» (скачок — слишком надрывное, слишком энергичное движение) — в том мире Он был у себя дома. К себе домой не скачут.
И Его спокойный и ясный ответ — колумбово яйцо: «Чада века сего женятся и выходят замуж».
Вот и все.
* * *
Человеческая жизнь почти целиком состоит из ряда предательств, бесконечно чередующих друг друга. Тайных и явных. Осознанных и неосознанных. Достойных прощения и непростительных.
Первый шаг и первое слово — предательство младенческой бессловесности и неподвижности. Юность — предательство детства. То есть возмездие — самому себе. Зрелость — предательство юности.
Дорога вдаль — предательство дома. Возвращение домой — по той же дороге, которую ты этим своим возвращением уже предаёшь.
Первая любовь — предательство юношеской клятвы никого не любить. Вторая любовь — предательство первой любви.
Иуда, бедняжка! Он мне напоминает повешенного за три дня до амнистии.
Что он сделал? Предал Того, Кого мы все каждой своей минутой предаём? Так почему же он один несёт наши грехи?
Когда пишешь о предательстве — пишешь о себе, о своём, о самом дорогом и близком. Когда пишешь о предательстве, всегда выходит хорошо. О предательстве не напишется плохо, как не напишется плохо письмо к матери. Лучшая вещь Леонида Андреева — «Иуда Искариот» — о предательстве.
Да что там детство и юность! Даже поход в парикмахерскую — предательство прежней причёски.
Но предательство из предательств — любовь. Точнее, ее осуществление.
У Гамлета и Офелии дело шло к своему логическому концу, т.е. к браку. Все уже было готово. И надо же — с ума сошёл! И она сошла с ума. Он умер. И она умерла. Все умерли. В девственной чистоте.
У Кьеркегора и Регины Ольсен дело шло к тому же. И надо же — размолвка. По его инициативе. По его провокации. Гамлет ведь тоже был своего рода провокатор.
Да и Абеляра и Элоизу, которые окончательно и навеки соединились только на Пер-Лашез, мы знаем и чтим после оскопления, а не до. Собственно, «Абеляром и Элоизой» они стали после оскопления.
Рильке и Цветаева должны были встретиться в Савойе после кратковременной, но напряженной и душной, как предутреннее сновидение, переписки. Не успели — Рильке умер от лейкемии. Все уже было готово, все было подготовлено перепиской. И надо же — лейкемия...
Все они были блестящие стилисты, не могли же они изменить стилю, предать стиль в главном своём деле — в любви. Осуществлённая любовь стилистически порочна, ибо порочна физически. Необходимо чувство меры, чувство стиля в рисунке телодвижений; кто не знает этого, тот идёт на риск.
Ведь и половой акт есть профанация хореографии. Насмешка над хореографией.
Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы. Тут все на ощупь, и тяжесть, и нежность. Это не постигнешь разумом — лишь плечом и рукой.
Как дрожь подбородка перед плачем, неуловима и мимолётна эта тема, и имя этой теме — любовь. Я выписал это слово, которое поэт счёл нужным зашифровать. Я назвал то, что поэт остерегался высказать вслух, тоже из чувства меры, из чувства стиля. Что ж, он оказался лучшим стилистом, чем я. В таких вещах преступна развязность, преступна даже откровенность.
И как тяжесть облегчает полет, так и сдержанность, и скованность, и оцепенение, словно в юношеском признании, одухотворяют эту тему, эту плоть, эту кровь.
И не нужны никакие трактаты; тут запах волос и память кожи, следы пальцев на мягкой щеке от пощёчины и взгляд, следящий твой уход, — кошмарней, чем фантазия у Гёте. Тут все на ощупь, тут нужны только пять чувств, а шестого не нужно. И не нужно трактатов, а достаточно сказать три слова: «Ангел, оленёнок, соколёнок».
Я знаю, как можно «задохнуться от воспоминаний» (Ницше).
Я знаю, как можно задохнуться от тяжести и нежности.
Это значит взвалить на себя 40 тысяч.
Это значит приехать в Венецию, сесть в кресло на пляже и умереть.
Я знаю одно: надо перешагнуть через бесполость... Но где опустить ногу? Надо перескочить через ступеньки, но через сколько?
Не рассчитаешь, ошибёшься — и ушибы, вывихи, переломы...
Но знаю и другое:
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестёр.
* * *
Все это время, пока я писал свои сорок тысяч, я держал в голове одно письмо (Цветаевой к Рильке). Не знаю, тяжелей ли оно томов премногих, но, в любом случае, оно тяжелей моего тома.
Все, что я хотел сказать, в сущности едва ли не целиком сводится к этому письму.
Я приведу его почти полностью — с чувством зависти и отрады.
«Райнер, я хочу к тебе, ради себя, той новой, которая может возникнуть лишь с тобой, в тебе. И еще, Райнер, — не сердись, это ж я, я хочу спать с тобою — засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто — спать. И ничего больше (Курсив мой. — М.Ж.). Нет, еще: зарыться головой в твоё левое плечо, а руку — на твоё правое — и ничего больше. Нет, еще: даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще: слушать, как звучит твоё сердце. И — его целовать.
Иногда я думаю: я должна воспользоваться той случайностью, что я пока еще (все же!) живое тело. Скоро у меня не будет рук. И еще — это звучит как исповедь... — итак, пусть это не звучит как исповедь: телам со мной скучно. Они что-то подозревают и мне (моему) не доверяют, хотя я делаю всё, как все. Слишком, пожалуй... незаинтересованно, слишком... благосклонно. И — слишком доверчиво! Доверчивы — чужие (дикари), не ведающие никаких законов и обычаев. Но местные доверять не могут. К любви все это не относится, любовь слышит и чувствует только себя, она привязана к месту и часу, этого я подделать не могу. И — великое сострадание, неведомо откуда, безмерная доброта и — ложь.
(...) Рот я всегда ощущала как мир: небесный свод, пещера, ущелье, бездна. Я всегда переводила тело в душу (развоплощала его!), а «физическую» любовь — чтоб ее полюбить — возвеличила так, что вдруг от неё ничего не осталось. Погружаясь в неё, ее опустошила. Проникая в неё, ее вытеснила. Ничего от неё не осталось, кроме меня самой: души (так я зовусь, оттого — изумление: именины!).
Любовь ненавидит поэта. Она не желает, чтоб ее возвеличивали (дескать, сама величава!), она считает себя абсолютом, единственным абсолютом. Нам она не доверяет. В глубине своей она знает, что не величава (потому-то так властна!), она знает, что величие — это душа, а где начинается душа, кончается плоть. Чистейшая ревность, Райнер. Та же, что у души к плоти (...): как воспета! История Паоло и Франчески — маленький эпизод. Бедный Данте! — Кто еще помнит о Данте и Беатриче? Я ревную к человеческой комедии. Душу никогда не будут любить так, как плоть, в лучшем случае — будут восхвалять. Тысячами душ всегда любима плоть. Кто хоть раз обрёк себя на вечную муку во имя одной души? Да если б кто и захотел — невозможно: идти на вечную муку из любви к душе — уже значит быть ангелом. Нас обманно лишили целого ада! (...trop pure — provoque un vent de dedain). (5)
Почему я говорю тебе все это? Наверное, из страха, что ты увидишь во мне обыкновенную чувственную страсть (страсть — рабство плоти). «Я люблю тебя и хочу спать с тобою» — так кратко дружбе говорить не дано. Но я говорю это иным голосом, почти во сне, глубоко во сне. Я звук иной, чем страсть. Если бы ты взял меня к себе, ты взял бы les plus deserts lieux (6) Всё то, что никогда не спит, желало б выспаться в твоих объятьях. До самой души (глубины) был бы тот поцелуй. (Не пожар: бездна.)
Je ne plaide pas ma cause, je plaide la cause du plus absolu des baisers. (7)
<1993>
1. Сестра (фр.)
2. Не трогать (фр.)
3. Небольшую прогулку (фр.)
4. Слишком (англ.)
5. Чрезмерная чистота вызывает ветер презрения (фр.)
6. Места, что всего пустынней (фр.)
7. Я защищаю не себя, а самый совершенный из поцелуев (фр.)
Лиля Панн. Манук Жажоян. "Случай Орфея"
[...] Самая оригинальная работа Манука, на мой взгляд, эссе «Сорок тысяч братьев» — о любви в браке и вне брака, о жене-сестре и любовнице. Легкость, с какой он остаётся целомудренно бесстыдным, видимо, особый дар. С оттенком безумия, его «теория тела» безжалостна (к новобрачным). В ее фундаменте — коллективное сознание и бессознательное армянского народа, выше всего ставящего в женщине «сестру». Теорию он укрепляет аргументами поэта: «Меня очень трудно убедить в том, что есть в мире язык, в котором это слово — «сестра» — было бы неблагозвучным». (В стихах та же тема удастся только в отдельных строчках: «Что мне тело твоё, если ты родилась бестелесной?») Его философия, неотличимая от поэзии, в свою очередь неотличимой от прозы, питается и русской мудростью — «Крейцеровой сонатой». Выливая свой ушат холодной воды на «тело» в браке, он идёт дальше — к освобождению от «пола» в браке. И в любви. Брак — высокая свобода. [...]