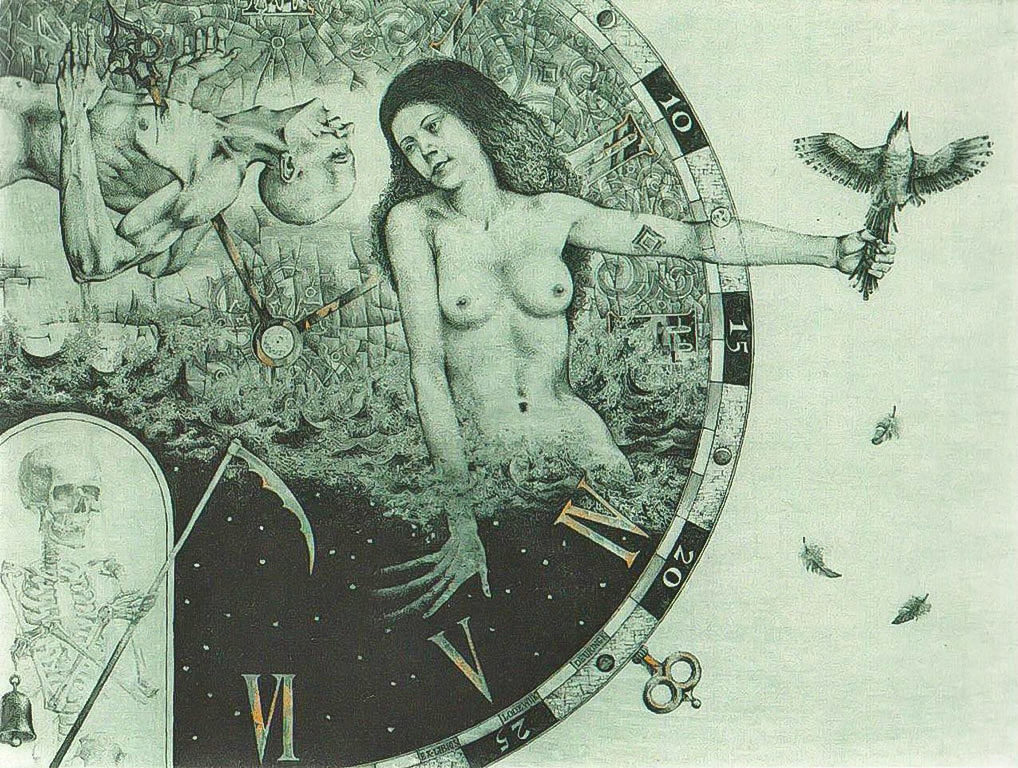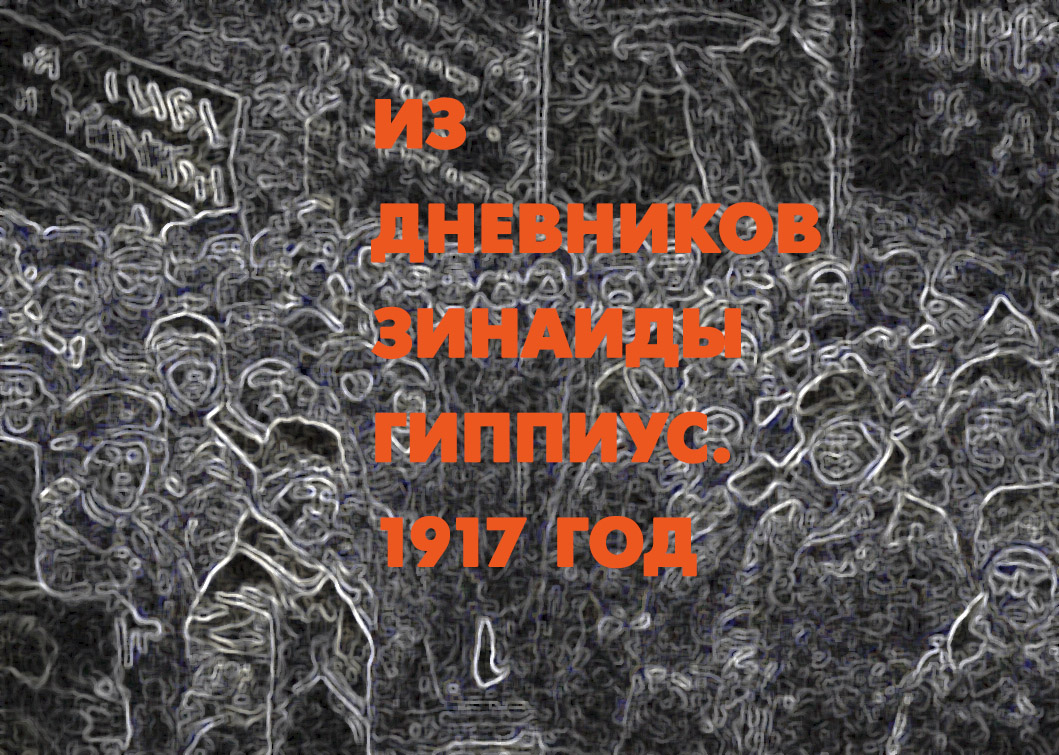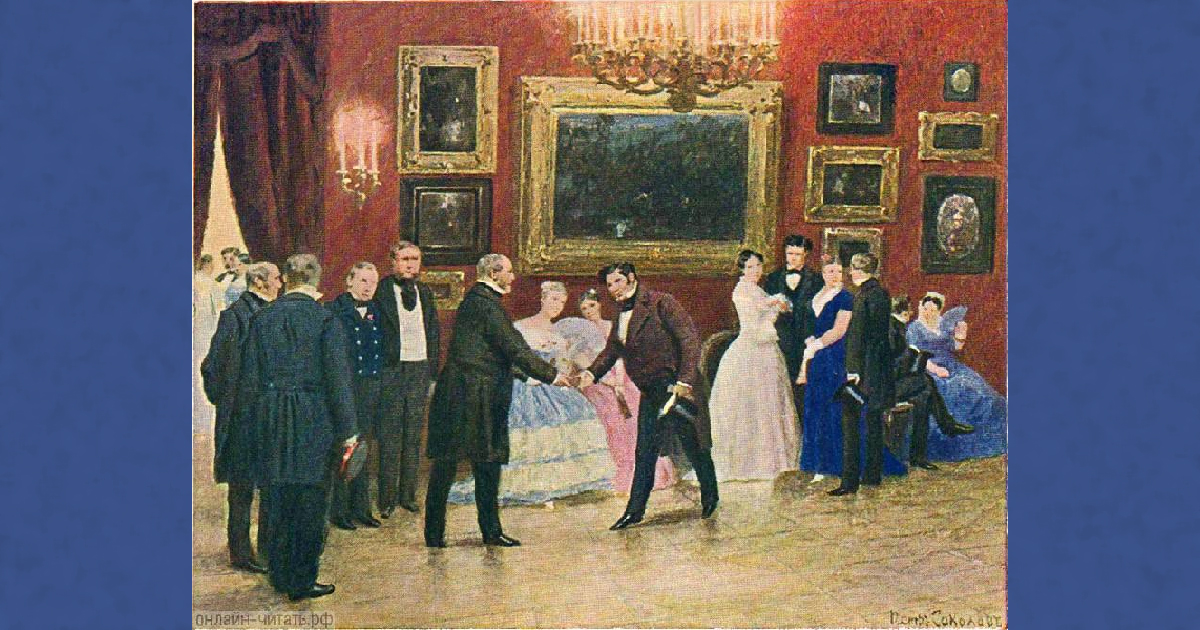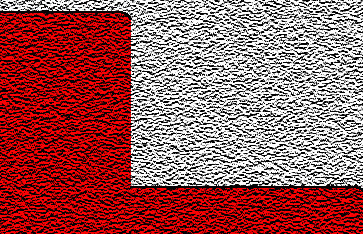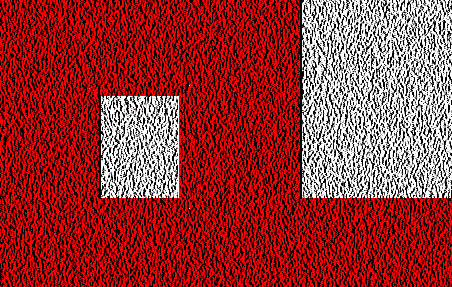Круги жизни
ПОВЕСТЬ В ПИСЬМАХ
Пойми значение
сменяющихся дней.
Чем ты внимательней,
тем речи их слышней.
Абу-ль Аля аль-Маарри
Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Среди прошедших дней у меня было немало таких, о которых хочется рассказать. Настал день, когда решил вернуть их, вспомнить и поехал в милый мне край. Сколько ни пробовал оторвать его от сердца — не могу; пробовал, потому что уводила жизнь, не могу, вероятно, потому что все там в меня вросло.
Порок многих путевых рассказов (и моих) в том, что они неизвестно к кому обращены: ко всем, а значит ни к кому. Автор представляет себе читателя как некое туманное пятно, и интонация его неразборчива — неизвестно, как разговаривать с туманным пятном, где улыбнётся оно и способно ли вообще улыбаться. Когда же обращаешься к близкому человеку — тут уж знаешь до тонкости, как писать и о чем, как отзовётся на каждое слово. И если книга интересна одному человеку, наверно, будет интересна если не всем, на всех никто не может рассчитывать, но многим.
Случилось так, что, когда уезжал, у меня появилась острая потребность заполнять письмами чужой досуг, Я стал писать с дороги, две задачи соединились в одну, и пачка писем превратилась в книгу рассказов.
6 апреля. Ташкент
Ну вот я и за тридевять земель. Огорчена? Вздохнула с облегчением? Если бы знал! Как ни странно, уехал легко. А казалось: никогда не смогу с тобой разлучиться!.. Видишь ли, люблю Среднюю Азию, как люди любят своё детство. Здешние краски, запахи сводят меня с ума, особенно сейчас, весной.
Ночью была зима. Автобус привёз меня на аэродром, дул ледяной ветер, я был в летнем пальто — не ехать же в теплом? — и совершенно продрог. Среди кучки заснеженных, поднявших воротники москвичей стоял я возле самолёте и, проклиная ветер, ждал, когда наконец подвезут трап.
Подумал: хорошо, что не провожаешь, чего доброго, простудилась бы… И укол в сердце: «Не проводила!»
Останавливаю себя: когда вспоминаю количество глупостей, за последние месяцы сказанных мною тебе, только чтобы не молчать о том, что у нас с тобой делается, прихожу в отчаяние. Теперь твёрдо решил: о том, что у нас с тобой, — помолчать. Тем более что и охоты говорить об этом сейчас нет.
Как ни странно, совершенно перестал думать о тебе в ту минуту, когда вошёл в самолёт и сел в кресло. Сказал себе: «Утром — весна!» Весна! И в памяти возникли стихи, что с юности привязывались в первый день каждого путешествия:
О, как сердце пьянит желанье странствий!
Как торопятся ноги в путь весёлый!..
Милый Катулл! Перед этими двумя строками есть такая: «Мы к азийским летим столицам славным!» Сегодня она как нельзя кстати, мы действительно летим к азиатским столицам — для начала в Ташкент! «О, как сердце пьянит желанье странствий…» Самолёт набирает высоту. Второй час ночи. Летим в тучах. За круглым окошечком-иллюминатором чернота: ни небесных звёзд, ни земных; на языке леденец, в груди счастливая дрожь путешествия. И что удивительно — тебя нет, просто нет, и все. Впрочем, еще Стендаль говорил, что в самой сильной и самой несчастной любви бывают минуты, когда человеку кажется, что он больше не любит. Размышляю об этом, никак не заснуть…
Наконец глаза стали слипаться, но тут стюардесса принесла яблочный сок. Ритуал!.. Вновь стал засыпать. Стюардесса опять разбудила: пора есть! Все развернули полиэтиленовые мешочки — извлекли вилки и ножи! Сок, салат, булочка, масло, потом принесли чай.
А за окном стало светлеть: в пепельно-голубом где-то далеко внизу родилось розовое озеро… Неземной пейзаж! Розовое озеро рассыпалось на розовые полосы, потом утонуло в голубом. Голубое светлело, светлело, пока не сделалось белым: летели в сплошной белизне. Минут за пятнадцать до посадки, совсем недалеко от Ташкента, увидел несколько крошечных домиков — селение в степи, и только тогда понял, что белое внизу — это снег. Какая поздняя весна! А белое наверху — облака.
Но облака раздёрнулись, сквозь их дымные края глянула голубизна неба. Снег внизу тоже разлезся на клочья, зазеленела степь. Мы пристегнули ремни, и, когда опять повернулись к окнам, уже от белого не осталось и следа. На нас наплывал Ташкент — близкие и далекие цепи деревьев, сутолока на шоссе и подъездных путях железных дорог; над крышами зданий, сверкавших на солнце, — заводские дымы. Здравствуй, Ташкент!
Промчался через город в такси. На окраине в садиках цветут вишни, цветут с яростной силой. Зелень на улицах еще робкая, некоторые деревья совсем голы, но путаница веток вся испятнана набухшими весенними почками. Кое-где цветёт иудино дерево: густо посаженные, яркие сиреневые цветы, прижатые к самым ветвям, как на японских картинах. На углах в корзинах продавцов — тюльпаны, огненно-красные. Весна! Запоздавшая, но все же весна!
И вот Авиационный проезд, тупичок, калитка… Знаю, найду здесь приют при любых невзгодах, как и прежде, при Алексее. Нет хозяина, неистощимого в шутках; не встретит меня на пороге, не услышу возгласа «Виталий!», не обниму. Его Галя, излучающая доброту, осталась одна. Услыхав звонок, она просовывает мне в окно ключ от калитки…
Сидим с нею на шипанге — открытой, почти на уровне крыши площадке, осенённой старым урюковым деревом, — не наговоримся. Потом Галя занялась хозяйством. А я устроился в садике и пишу тебе. За последнее время между мной и тобой выросло столько лишних слов, что о жизни мы как то разучились разговаривать. Не могу примириться с мыслью, что это конец. Мне кажется (можешь посмеяться над этим), что мы, в сущности, ни разу с тобой о жизни и не поговорили. Сперва понимали друг друга с полуслова и наслаждались этим, так что договаривать было ни к чему. Потом то в одном, то в другом не вполне сходились, и возникали обиды: «Ты меня не любишь, если я перестала (перестал) быть для себя совершенством».
Вспомнил строки ибн-Хазма на сей счёт, не поленился, сходил в дом, разыскал на полке у Гали «Ожерелье голубки»:
«Мы видим, что когда влюблённые одинаково любят и их любовь крепко утвердилась, учащаются между ними беспричинные приступы гнева, и умышленное противоречие в словах, и нападки друг на друга из-за всякого малого дела, и каждый из них наблюдает за каждым словом, которое проронит другой, и толкует его не в том смысле, — все это для проверки, чтобы выяснить, что думает каждый из них о другом. Разница между этим и настоящей неприязнью — в быстроте прощения».
Тысячу лет назад сказано. Невольно приходит на ум: сколько нас было за эту тысячу лет! Почему же за такой срок мы ничему не научились? Почему каждый раз все сызнова?! И неужто надо уехать за три тысячи километров, чтобы суметь тебе рассказать обо всем интересном, что было в жизни?!
7 апреля. Ташкент
Сегодня с утра шестнадцать раз принимался идти дождь. Кто-то, не помню кто, сказал: «Слезы — высшая степень улыбки». Как все шестнадцать раз улыбалось солнце после дождя! Удивительная для Ташкента погода. Отоспавшись после ночи полёта, решил утром пройтись по местам моего отрочества.
Сперва отправился на улицу Фрунзе, прежде Долинскую… Одноэтажные особнячки, садики, окна в белых решётках. Вдоль уличных арыков — ряды тополей, белой акации. Смешно! Привык быть с тобою рядом: шёл, и моя рука то и дело рвалась куда-то в пустоту — помочь тебе перепрыгнуть арык или перейти улицу, а то и просто чтоб притронуться и привлечь твоё внимание к чему-нибудь. Тебя нет, а я тебе говорю: «Смотри! Здесь я жил».
Вон там, в глубине двора, у того сарая мы с увлечением играли в «ножички»; ножик должен был воткнуться в землю, выходя из замысловатых фигур. Нам было по четырнадцать лет. На макушках тесно росших позади сарая тополей мы играли в пятнашки: раскачиваешься на верхушке тополя — ухватишься за соседнюю, переберёшься. Отрочество не знает ни головокружений, ни страха. Запрещения взрослых на нас не действовали, спортивный азарт был сильней.
Как-то раз все же сорвался с макушки тополя, летел вниз, обламывая по пути ветки. Они меня и спасли — амортизировали падение. В придачу упал в большой арык, да так, что туловище оказалось в воде, а голова на берегу. Лежу на спине, чувствую — не могу пальцем пошевелить, хочу крикнуть — не могу звука издать. Вот натерпелся страху! Прошло несколько минут, холодная вода, обтекавшая тело, вернула мне движения и речь.
Здесь, на Долинской, на меня возвели первую в жизни напраслину: соседи обвинили меня в том, что украл деньги, которые они почему-то спрятали где-то снаружи — не то под лестницей, не то в водосточной трубе. И хотя денег я не крал, мне никто не поверил. «Кому же еще украсть?! Беспризорник!»
Действительно, после смерти матери и отца беспризорничал. В Одессе, Потом, играя на ложках и подкармливаясь в красноармейских продпунктах, пересёк Россию и приехал в Свердловск (тогда Екатеринбург). Разыскал сестру, которая жила с мужем и со своей матерью, первой женой моего отца. Они приютили меня, но вскоре переехали жить в Ташкент, а я остался на время в интернате. Перезимовал и в конце мая сбежал в Ташкент. Было это на хвосте той волны, что ринулась в «Ташкент — город хлебный» в дни поволжского голода.
Меня подобрал в пути военный фельдшер — переезжал из Челябинска на службу в Туркестан с женой и двумя детьми: две недели ехал с ними в раскалённой от июньского солнца теплушке. Не помню, к сожалению, ни имени, ни фамилии этого человека. Запомнил только, что дочку его звали Светланой, в ту пору уже стал заглядываться на девчат.
Сестра моя жила на Долинской, у неё и поселился. Спустя некоторое время мужа ее перевели в Москву. Они уехали, я остался в Ташкенте кончать школу и перебрался на Ниязбекскую, в сарайчик, стоявший в обширном саду. Сейчас там давно нет ни сада, ни моего сарайчика — большие дома, так что идти туда ни к чему.
Сарайчик был романтическим жильём. В углу был деревянный топчан с матрацем, покрытым тонким одеялом, а на стене висело расшитое цветными нитками сюзане — единственное моё богатство. Каждый вечер, ложась спать, проверял, нет ли за ним скорпионов. Где-то услыхал: если в помещении убить скорпиона, непременно приползёт другой — мстить. Поэтому, обнаружив скорпиона, смахивал его на земляной пол, потом ботинком или веточкой вышвыривал в сад и убивал уже вдали от сарайчика.
Однажды нашёл в постели змею, правда, это оказался безобидный полоз. Со змеями, надо сказать тебе, обращаться умел, мы, ребята, частенько ходили на речку Чирчик ловить их, палкой с рогулькой прижимали шею змеи к камням, хватали ее руками и засовывали в пустую банку. Змей продавали в музей и в университет.
Поселившись в сарайчике, я стал жить сам по себе. В школу ходил во вторую смену, по утрам зарабатывал: продавал «Туркестанскую правду», собирал в садах фрукты. Раз даже нанялся отогнать шесть лодок по Сырдарье от Чиназа до Казалинска: две недели с приключениями плыл один среди камышей великой среднеазиатской реки.
Был случай, когда даже намеревался бросить работу. На Воскресенском базаре, примерно там, где сейчас взлетает фонтан против оперного театра имени Навои, среди торговых помещений бойко вертелась рулетка. Азартные игроки ставили на номера механических лошадей. Это давало шанс на крупный выигрыш, но можно было ставить на чет или нечет, в этом случае выигрыш был скромный: только удваивалась поставленная сумма.
Хотя, ты знаешь, я не силен в математике, все же сообразил: если ставить все время на чет — в конце концов должен же выпасть выигрыш! Тогда одним махом верну проигранное плюс чистый выигрыш. После этого надо не зарываться, начинать вновь с двадцати копеек.
В первый же вечер этим беспроигрышным способом выиграл рублей пять — деньги, на которые по тем временам мог кормиться неделю. На следующий вечер дело пошло еще бойчей… Но тут хозяин тотализатора (были годы нэпа!) вывел меня за ухо из своего заведения:
— Если ты, мальчик, попробуешь прийти еще раз…
Не договорил и так скрутил моё ухо, что и без слов можно было догадаться, что меня ожидает. С тех пор понял: азартные игры рассчитаны на дураков.
На том месте, где сейчас красуется здание гостиницы «Ташкент», мне в те годы крупно повезло: выиграл в лотерею корову. Подгоняя ее ремешком, вышел на улицу, совершенно подавленный свалившимся на меня счастьем и смущённый — не знал, что делать с коровой. Больше всего боялся, что меня с нею увидят товарищи, поднимут на смех. Спасли перекупщики, догнали нас — меня и корову, отдал им ее почти задаром.
Существовали и другие развлечения.
В те дни ташкентцы увлекались партерной борьбой. В цирке выступали «красная маска», «черная маска»… Настоящим торжеством был день, когда борцы маски снимали, в этот день все устремлялись в цирк. Сами мы боролись во дворах, честно следуя правилам. Но про цирк ходили упорные слухи, что там борются не всерьёз, что там сделки. Эти слухи бередили нашу подозрительность и отравляли удовольствие от зрелища. Мы были так ими раздражены, что хватило пустяка, и негодование взметнулось фонтаном.
Нашей жертвой стал «факир-гипнотизёр» с каким-то немыслимо пышным индийским именем: его афиши были расклеены по городу. Я собрался пойти на него посмотреть и сказал об этом Яшке — взрослому парню, жившему по соседству. Яшка как-то двусмысленно на меня поглядел и рассмеялся.
— Чего смеёшься?! — насторожился я, готовый обидеться и дать в ухо.
— Да какой он факир, — сказал Яшка. — Он только для блезиру факир! — Яшка рассказал, как этот самый факир вчера встретил его возле гостиницы и нанял: вечером в цирке факир вызывал «желающих» из публики, и Яшка с какими-то еще двумя, как было уговорено, выскочили на арену и по приказанию факира то «засыпали», то «просыпались» и получили за это по червонцу.
Жил у нас на улице Митька. Несмотря на великовозрастность (было ему лет двадцать), почему-то играл с нами в «ножички» и другие мальчишечьи игры. Был куда сильней нас, поэтому, не сговариваясь, мы признали его вожаком. Дали ему прозвище Цар: отсутствие мягкого знака придавало на наш слух этому титулу особенную значимость. Я привёл Цара к Яшке, и тот все ему повторил.
Мы решили факира разоблачить, уговорили Яшку наняться еще раз, оповестили заранее ребят с нескольких улиц. Предвкушая скандал, они устремились в цирк брать билеты. Нанявшись к факиру, Яшка стал проявлять нерешительность.
— Ребята, — говорил он жалобным голосом, — а может, не надо, а?
Опасаясь его измены, мы со своей стороны собрали деньги. И Цар вручил ему червонец, чтоб уж наверняка нас не продал.
И вот сижу в цирке в первом ряду рядом с Царом, поглядывая на знакомые лица, рассеянные среди публики. Чувствую себя тайным режиссёром предстоящего: придумал-то все я. По ту сторону арены сидит Яшка и почему-то упорно разглядывает свои ногти. Кончается первое отделение: на акробатов и дрессированных собачек никто из нас и не смотрит.
Наконец второе отделение! Выходит факир под звуки восточной мелодии. По тому, как преувеличенно-изящно раскланивается, я сразу смекнул: одессит! На голову намотана чалма непомерной величины, в неё воткнуто серебряное перо, с плеч свисает роскошный шёлковый халат: индийский набоб, да и только! Сообщив публике как величайшую новость, что гипноз признан наукой, сославшись на Льва Толстого, Ганди и академика Павлова (тогда была мода все сомнительное подпирать научностью), факир спросил, нет ли желающих подвергнуться гипнотическому опыту.
Наш Яшка и еще двое проворно метнулись на арену и уселись на три заранее поставленных стула, так что, если бы нашёлся четвёртый желающий, ему просто не на что было бы сесть. Наше возбуждение нарастало. «Тебе интересно слушать меня?» — спросил бы сейчас тебя, ежели ты и впрямь была б рядом. Знала бы только, какое для меня удовольствие рассказывать тебе о своём отрочестве!
Итак, Яшка сидит на стуле, факир стоит перед ним и проделывает серию пассов. Я захихикал, меня свирепо ткнул в бок толстяк сосед. Прошло минуты три, все трое заснули. Все трое! В том числе и Яшка! Это было непостижимо. Наш Яшка заснул! С закрытыми глазами он делал все, что приказывал факир: брал себя рукой за нос, становился, прижав к заду стул, на четвереньки, лаял по-собачьи… Мрачно глядя на Яшку, Цар прошептал:
— Взял червонец и хочет еще у него получить! Гад!
Факир предложил кому-нибудь выйти на арену — проверить, как спят загипнотизированные: это тоже входило в программу. Цар перескочил барьер раньше, чем кто-либо успел опомниться, подбежал к Яшке — и ему на ухо:
— Если сейчас же не бросишь дурить, получишь раза!
Яшка знал, что такое «раза»: за гнусный проступок против товарищей каждый имел право один раз наотмашь ударить виновника по лицу. Ребят, замешанных в эту историю, была добрая сотня, ни один не отказал бы себе в удовольствии ударить как следует. Заметив перешептыванье, факир подскочил к Яшке, повелительно крикнул:
— Спать!
Тут Яшка встал со стула и сказал:
— И все это, граждане, один сплошной обман и враки!
Воодушевившись, наши ребята повскакивали с мест, со всех сторон понёсся свист. Непосвящённая публика требовала не мешать гипнотизёру. Взметнулся скандал, истошные вопли ребят и голоса взрослых смешались в общем крике. Воспользовавшись суматохой, один из «загипнотизированных» улизнул. Третий, розовощёкий паренёк-рабфаковец, встал со стула и чистосердечно признался, мол, факир и его нанял: червонец-то на земле не валяется! Факира уже хотели бить… Неожиданно он бросился бежать по проходу, кто-то рванулся за ним… Но он подскочил к билетёрше, сидевшей у двери, громким голосом крикнул:
— Спать!
Билетёрша сразу заснула. На высоко поднятой руке факир понёс ее по проходу на арену, это вызвало замешательство, зал стал затихать, ожидая, чем все кончится: видать, дошлый человек был этот факир! Он поставил на расстоянии спинками друг к другу два стула. Положил билетёршу, словно бревно, головой на одну спинку стула, ногами — на вторую, и принялся ей на живот громоздить гири одну тяжелее другой. Несколько негодующих воплей ребят захлебнулись, потушенные сидящими рядом людьми: они заплатили за билет и хотели досмотреть все до конца. Сеанс гипноза продолжался…
Так и осталось неясным, на чьей стороне победа. Правда, назавтра в газете напечатали фельетон, разоблачавший факира. Говорили, после этого он ходил к прокурору, показывал опыты гипноза, требовал опровержения. Опровержение опубликовано не было, и факир покинул Ташкент.
Не помню, рассказывал ли тебе: в те годы мне довелось видеть и настоящего индийского факира — в Старом городе, в азиатской части Ташкента. Как-то раз бродили мы по глиняным улочкам, похожим на русла высохших арыков, и попали на маленькую площадь, куда со всех сторон стекался народ. Оказалось: ждали выступления факира. Он сидел у водоёма в тени карагача. Зрителями наполнились даже плоские кровли окрестных домиков.
Со мной был Ванюшка Плеханов: жил на Обсерваторской, недалеко от меня, учились в одном классе, вместе слонялись по Старому городу, вместе в Новом городе участвовали в мальчишечьих драках — несколько улиц на несколько улиц. У Ванюшки была страсть к химии. Из бертолетовой соли, красного фосфора и еще чего-то он научился делать «бомбочки»; разрывались они с устрашающим грохотом и огнём, пугая всех, но не принося вреда. «Бомбочки» подарили нам сокрушительную победу в очередной драке. Позже, во время одного опыта, случился взрыв на моих глазах. Ванюшке опалило грудь и лицо (мизинец его я отыскал между рамами окна), но он остался жив и выздоровел.
Так вот, вместе с Ванюшкой примостились мы в первом ряду, лёжа на животах, чтобы не мешать смотреть сидящим на земле узбекам. Факир показывал классический номер массового гипноза — выращивал манговое деревце. Посадил в землю семечко, на наших глазах оно проросло, вытянулось в деревце, деревце расцвело, лепестки опали, набухли плоды, налились, созрели. Наконец факир сорвал с деревца несколько плодов и швырнул в толпу, нам с Ванюшкой посчастливилось поймать один плод и полакомиться. Потом всю жизнь помнил вкус манго. Много лет спустя, когда впервые в банках привезли к нам из Индии сок манго, и ты — помнишь? — дала мне попробовать, безошибочно узнал знакомый вкус. Ты на миг мне вернула одно из восхитительных воспоминаний отрочества.
Бродить по Старому городу было в ту пору огромным для меня удовольствием. Перейдя Урду, где стояли лотки продавцов хлебных лепёшек, мы переносились в сказку «Тысячи и одной ночи». Правда, на главной улице, шедшей отсюда в глубь Старого города — на Шейхантаурской, — уже громыхал трамвай: ходил по одной колее, останавливаясь на разъездах. Людям, трусившим на ишачках, приходилось сворачивать от трамвая в переулок: так узка была Шейхантаурская. В остальном это был средневековый город.
Женщина-узбечка бесшумной тенью скользила вдоль улочки, плотно закутанная в паранджу, с опущенной на лицо черной волосяной сеткой. В годы отрочества не видел лица ни одной узбечки, и под каждым покрывалом мне чудилась красавица: застенчивость ни разу не позволила мне заглянуть под покрывало, чтобы опровергнуть это или подтвердить.
Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву протяжными криками, и прямо рядом с горном расстилал молитвенный коврик кузнец, и базарный цирюльник, пускавший за деньги людям кровь, прерывал врачевание, чтобы склониться перед аллахом. Интересно было ходить по базару. Чего-чего не увидишь!
То в прохладе крытого шёлкового ряда любуешься, как полумрак прорезают сверкающие мечи солнца, выхватывая из темноты яркие краски на чалмах и халатах идущих. То наблюдаешь, как базарный поливальщик разбрызгивает из бурдюка воду, да так бережно и искусно, что каждая ее драгоценная капля падает отдельно и, подобно капельке ртути, закатывается в пыль. То натыкаешься на каландаров — странствующих монахов ордена нищих: гнусавя молитвенные стихи, ходили они стайками по базарным рядам, с чашками для подаяния из скорлупы кокосовых орехов, в лоскутных халатах, в остроконечных шапках с меховой оторочкой. То следишь в чайхане, как разгораются страсти вокруг перепелиных боев, а в стороне какой-нибудь франт перематывает чалму, и ему помогает знаток неторопливым советом. То останавливаешься возле писца: сидит с чернильницей, подвешенной на шее, выводит тростниковым пером арабские буквы, составляя для кого-нибудь жалобу или. любовное письмо. Женщины-узбечки в то время вообще не умели писать.
Рассказывают: когда узбечка тосковала по любимому, она вместо письма посылала пучок соломы и кусочек угля — хотела этим сказать: «Я без тебя пожелтела, как солома, и почернела, как уголь». Что, если бы в моё письмо к тебе я сейчас засунул уголёк и соломинку?
Теперь-то понимаю: новое уже тогда врывалось свежим ветром в жизнь узбеков. Однако мы, русские ребятишки, приходившие в Старый город из Нового — европейской части Ташкента, — видели одежды, но не видели сердца Старого города.
И все же один случай неожиданно обнажил передо мной, с какой силой уже в ту пору ворвалось новое в жизнь, Но поставлю заголовок, сама суть требует, чтобы выделил то, о чем собираюсь рассказать.
Караван Арсланова
Лето 1924 года. Пушкинская улица в Новом городе была так же широка, как и сейчас. Однако многоэтажных зданий на ней не было, сама мостовая на участке между Сергиевской церковью и Дархан-арыком не была залита асфальтом, лишь сбоку, вдоль колеи трамвая, улицу замостили булыжником, а посреди лежала «священная» пыль.
Однажды, идя в школу, увидел издалека, как на Пушкинскую из поперечной улицы выплыло облако пыли, поклубилось, наполнило собой улицу до вершины тополей и, повернув, быстро поплыло вдоль Пушкинской. Впереди облака ехал всадник в обычном хивинском красном халате. Из облака стали доноситься скрип колёс, пощёлкивание плетей, звон верблюжьего бубенца, оживлённые голоса, смех. Потом сквозь пыль проступили фигуры передних всадников, ехавших на лошадях, на верблюдах, и очертания большеколёсных арб, на которых сидели люди.
— Мальчик! — окликнул меня по-узбекски всадник, ехавший впереди.
Я подошёл. Хивинец, который вблизи оказался едва ли годом старше меня, спросил, как проехать в ирригационный техникум. Показывая дорогу, зашагал рядом с его конём.
Спустя полчаса, когда пыльное облако вслед за нами докатилось до техникума и возле него растаяло, когда вздымавшие это облако узбеки, среди которых по одеждам угадывалось несколько туркмен и казахов, когда они и их кони, верблюды, арбы заполнили дворик техникума, а не поместившиеся образовали за воротами табор, когда, наконец, прибежал, запыхавшись, директор, — обнаружилось первое обстоятельство, достойное удивления: на двести двадцать шесть приехавших учиться было всего одно направление. Это было направление на имя Арсланова — молодого хивинца, что ехал впереди.
Но еще удивительней оказалась история рождения каравана. Как-то раз в одно из селений Хивинской Народной Республики пришло по развёрстке направление в техникум. Сельский староста — аксакал — вручил его Арсланову, юноше, которого в селении считали передовым. Хорезм был в то время самым дальним, самым глухим углом Средней Азии. Арсланов, который мечтал по меньшей мере о подвигах Алпамыша, любимого им героя эпоса, ехать учиться не захотел. Ему казалось постыдным для мужчины делом, «подобно тощему писцу, сидеть, макая перо в чернильницу». Попробовал откупиться, не вышло. Делать нечего, Арсланов оседлал, «подобно Алпамышу», коня, распрощался с родителями и отправился в путь.
Доехав до Хивы, он остановился на ночлег в караван-сарае. Разговорился там с сыном хозяина, сверстником. На вопрос «Куда едешь?» Арсланов ответил, как по его представлениям надлежало мужчине: «Куда копыта коня приведут». Новый знакомец поведал, что хочет ехать учиться. Обрадованный Арсланов решил подарить ему своё направление в техникум, извлёк бумажку из пояса. Однако фамилия Арсланова в неё была вписана, да и проехаться в Ташкент было не так худо, парни рассудили: направление можно будет в Ташкенте обменять. Из Хивы выехали вдвоём.
В следующем селении к ним присоединились еще двое. Поехали дальше, из селения в селение, из города в город. По пути Арсланов, как ком снега, стал обрастать молодыми дехканами, пастухами и горожанами, жаждавшими учиться. Чем ближе был Ташкент, тем явственней людям был виден свет, идущий из этого города, тем большая назрела потребность окунуться в этот свет, испытать себя в новом мире. Многим, чтобы поехать учиться, нужен был только толчок.
А сам Арсланов, причудливой игрой судьбы и случая вознесённый на положение Алпамыша — богатыря, за которым следуют толпы, гордясь этим положением и ревниво оберегая его, начал в попутных селениях сперва робко, потом все больше воспламеняясь, призывать людей ехать учиться. Убеждая других в великой пользе приобретения знаний, он, как бывает, убедил в этом и самого себя.
Вот и вся история. Буду счастлив, если скажешь: «Что-то в ней есть».
7 апреля. Вечер. Ташкент
От улицы Фрунзе — тем путём, каким ходил в школу, — вышел сегодня на Пушкинскую.
Вот тут, рядом с почтамтом была велосипедная мастерская. Как прошлое меркнет в рассказе! Какими словами передать тебе интерес, который заставлял нас часами просиживать на корточках, глядя, как работает мастер! Все мечты о чудесной технике будущего были для нас воплощены в этой работе: в гаечных ключах, колёсах, спицах, цепях передач. Сейчас трудно в это поверить: тогда это было единственное в городе техническое предприятие, если не считать мельницы и железнодорожных мастерских, но туда нас не пускали.
Помню, как на ташкентских улицах появилась легковая машина. Пять кварталов бежали мы за ней, задыхаясь. А сегодня долго стоял, задрав голову на жилые корпуса, выросшие после землетрясения, пережидая, пока пройдёт поток запылённых автомашин. Другой город! Не разобрался бы — где бывшая Жуковская, где Гоголевская, если бы не приземистый четырёхэтажный дом, уцелевший от подземных ударов. Стою возле него на углу, будто назначил свидание. Кому?
Помнишь, когда-то… уходя, я говорил:
— Я не ушёл. Я буду сидеть вон на том стуле в углу, чтоб тебе не было скучно и одиноко.
Какие счастливые были, безоблачные, ничем не омрачённые дни. А теперь уехал, не оставив себя ни на стуле, ни за окном, нигде не оставив. И ты глазом не моргнула: уезжаешь — ну и уезжай!
На месте дома, у которого стою, было в двадцатых годах три чайханы. На большой перемене мы бежали сюда съесть полпорции плова, выпить пиалу зелёного чая. В полуквартале выше, на Гоголевской, если чуть подняться в горку, и была наша школа имени Пржевальского.
Учителя мои! Все, что знали, они отдавали нам. А мы, признаться, постоянно смеялись над ними, многое не вспомнишь без стыда. Говорю не о таких безобидных вещах, как подсказки: некоторые были ничего придуманы. Наш учитель географии, например, был подслеповат. Мы пользовались этим и наводили солнечный зайчик на какой-нибудь Баб-эль-Мандебский пролив раньше, чем учитель успевал обернуться и рассмотреть, верно ли указывает ученик на карте. Но когда мы тому же учителю географии, добродушнейшему старичку, приделали к стулу два электрических провода и посреди урока закрутили под задней партой электрофор — это уже была жестокость! Старичок заплакал и покинул класс. Помню, как я хохотал, пытаясь прикрыть смехом гнетущее чувство стыда.
А над учителем математики Михаилом Владимировичем, человеком требовательным, хотя и суховатым, подшутили так. Он, как часто бывает со сдержанными людьми, не лишён был сентиментальности и мечтал о школьной рождественской ёлке. Где раздобыл он в Ташкенте ёлку — не знаю; но теперь понимаю, это было нелегко. Может, выписал ее из Сибири? Мне, как «культкомиссии», поручили ёлку украсить. Игрушки Михаил Владимирович принёс из своего сундука. Мы нарядили ёлку, перед самым торжеством зал закрыли, сняли игрушки, оставили только свечки, вместо игрушек развесили стереометрические фигуры из картона и ниточек, которые он заставлял регулярно делать: ненавистнейшее занятие для всех нас.
Торжественно открылись двери, вошли учителя и остолбенели. Такой ёлки им не приходилось видеть — между стереометрическими фигурами колебалось пламя свечей. Школьники покатывались со смеху, Михаил Владимирович побагровел. Потом, конечно, игрушки на ёлку вернули, но настроение Михаилу Владимировичу мы сумели отравить. Каюсь перед его тенью, это придумал я нелюбимый его ученик, плохо занимавшийся по математике. Нет, не стоило ему учить меня, тратить на меня сердце.
Вот вспоминаю, и кажется — не я, кто-то другой рассказывает о себе. Как длинна человеческая жизнь! Сколько успевает пережить человек и тёмного и прекрасного! Надо ли тёмное вспоминать? Вероятно, надо, чтобы его от себя отделить. Иначе никогда от него не избавишься.
Были и любимые учителя. С благоговением вспоминаю Николая Леопольдовича Корженевского, путешественника и исследователя горных ледников, оказавшего на всех нас огромное влияние. В те бурные годы географы временно оказались не у дел, и известный путешественник вынужден был пойти в школьные учителя. Он преподавал физику, но и, преподавая физику, развивал у нас вкус к географии. Страсть к путешествиям была в нем столь велика, что нам, школьникам, не составляло труда сбить его на любимый предмет. И мы пользовались этим: частенько урок физики обрывался, и Николай Леопардович (так шутливо и вместе с тем влюблённо мы его величали, услышав из его уст о том, как однажды встретился в горах со снежным леопардом) рассказывал нам о своих путешествиях по Средней Азии.
Его рассказы посегодня живы в памяти. Вот один. Не буду пытаться передать тебе интонацию самого Николая Леопольдовича: слишком давно был тот урок физики, чтобы смог рассказать его словами, его голосом. Расскажу суть.
Сторож Сарезского озера
Озеро это существует на всех картах Памира. До 1911 года его не было — не только на картах, вообще не было. Было маленькое памирское селение Усой, его жители разводили овец и яков, делали из шерсти грубую одежду, а из сыромятной кожи чарыки — простейшую обувь. Кормились почти исключительно бараниной, брынзой и ячьим молоком. А по вечерам, греясь у очагов, когда наскучивало судачить друг про друга, рассказывали легенды об Искандере-Зуль-Карнайне, Александре Македонском, потомками воинов которого считали себя.
И вдруг землетрясение обрушило на Усой нависшую над ним гору. Лавина скал рухнула на домики селения, потащила их с собой, перевернула и погребла, перегородив русло Мургаба, горной реки, к которой усойские женщины спускались с кувшинами за водой. Лишь один усоец спасся, и то потому, что был в гостях в Сарезе, соседнем селении.
Воды реки позади километровой стены усойского завала стали подниматься, среди скал разлилось озеро. Нескольким селениям пришлось сняться с мест и уйти, а озеро все подымалось и ширилось. Возникла угроза: в какой-то день это новое озеро, нависшее в горах Памира, прорвётся сквозь завал и устремится вниз, смывая все по берегам Бартанга и Пянджа вплоть до Термеза. Угроза эта заставила в 1913 году отправить к Сарезскому озеру небольшую экспедицию, в ней участвовал Николай Леопольдович. Экспедиция исследовала усойский завал, пришла к выводу: достаточно прочен, чтобы выдержать напор любой массы воды. Время подтвердило: Сарезское озеро существует по сей день. И если захочешь, мы с тобой можем совершить к нему путешествие, хотя добраться туда нелегко. Сможем даже искупаться в нем, впрочем, вряд ли тебе это доставит удовольствие — вода слишком холодна.
Однако в то время не было уверенности, не выкинет ли какой-нибудь неожиданный фокус это самое озеро. И экспедиция решила оставить наблюдателя. Сторожем Сарезского озера и наблюдателем был взят местный житель — памирский таджик. Рядом с завалом соорудили домик, чтобы он мог жить с семьёй и скотом, положили жалованье, выдали его за год вперёд, поставили восемь реек в разных концах озера — на них нужно было делать отметки — пожелали счастья и уехали.
Прошло много лет. Нет, ты только представь! В жизнь народов ворвалась империалистическая война, потрясла мир Октябрьская революция, на просторах нашей страны гуляла война гражданская… Сколько событий! Наконец, кажется, году в 1923-м (во всяком случае, Николай Леопольдович рассказывал нам по свежим следам), вспомнили об угрозе, которая где-то там в горах Памира висела над людьми. Снарядили экспедицию, Николай Леопольдович возглавил ее.
Когда экспедиция добралась до синих вод Сарезского озера, навстречу вышел тот же памирский таджик, правда, постаревший на десять лет, и поздоровался как ни в чем не бывало. Все годы он продолжал нести свою вахту, аккуратно делал пометки на рейках. А когда озеро затопило рейки, поставил вместо них новые и делал отметки на них. Он терпеливо ждал и готов был отчитаться в проделанной, и действительно отчитался сразу за десять лет.
— С того дня, — сказал нам Николай Леопольдович, — люди делятся для меня на тех, кому можно доверить Сарезское озеро, и на тех, кому его доверить нельзя.
Сам Корженевский принадлежал к первым. Задолго до революции кончил военное училище в Киеве, кончил с отличием: мог выбирать, где служить, мог быть зачислен даже в гвардейский полк в Петербург. Посмотрел, какие есть вакансии, и выбрал город Ош в далёкой Ферганской долине. Все удивились: «Куда вы?! В этой дыре только и делают, что пьют да в карты играют!» Но он знал, куда ехал. Он мечтал о «подножье солнца» — Памире! Мечтал открывать неизведанное!
Он приехал в Ош. Другие играли в карты, а он на арыке построил турбину и дал городу электрический ток, потом стал совершать экскурсии в горы, потом — экспедиции. Его открытия ледников сделали имя Корженевского известным. Ему стало помогать Российское географическое общество, Семенов-Тян-Шанский. Никогда не забыть того трепетного чувства на уроках Корженевского, когда прикасались к живому в истории. Оно заставляло нас, весь класс, ощущать себя чуть ли не прямыми наследниками великих русских путешественников XIX века.
Имя Корженевского носят два крупнейших ледника — один на самом северном из тянь-шаньских хребтов — Заилийском, второй — на самом южном из киргизских хребтов — Заалайском. Ты догадываешься, что это имя дали ледникам другие исследователи, но имя величайшей вершине, открытой им, Николай Леопольдович дал сам в 1910 году!
Он познакомился с Евгенией Сергеевной в Оше, она там жила. Люди, не обладающие воображением, вырезают милое имя на скамьях. Николай Леопольдович назвал именем любимой пик и прославил ее на весь мир. Ты скажешь: «Вот пример! Учись!» Мне остаётся вздохнуть: опоздал родиться, все уже названо. Правда, еще есть безымянные вершины, но по высоте ни в какое сравнение не идут с пиком Евгении Корженевской, их никто и не запомнит. Нет у меня и надежды открыть новую звезду, назвать твоим именем. Остаётся дать твоё имя… разве что солнцу. Я бы с радостью! Но не думаешь ли, что это может плохо кончиться для тебя? Слишком большая, незаслуженно полученная известность быстро переходит в презрение… Быть может, все-таки ограничиться тем, что имя твоё повторять про себя.
В 1960 году, спустя год после смерти Николая Леопольдовича, попав в Ташкент, я навестил Евгению Сергеевну. Ей было под восемьдесят, а она только что вернулась с Сырдарьи, с рыбалки, куда ездила вместе с подругой. Тут же мне и себе она налила по рюмке красного вина, помянуть Николая Леопольдовича. Тогда-то Евгения Сергеевна и сказала мне, что Николай Леопольдович умер, можно сказать, с моей книгой в руках.
Книгу «С вами по Киргизии» я заключил посвящением Корженевскому, «моему школьному учителю». В конце 1958 года, когда книга вышла, сейчас же ему отослал. Николай Леопольдович лежал в больнице, ему делали операцию. Потом долго не выписывали, наконец он приехал домой, приехал в отличном настроении, шутил, смеялся, даже выпил за обедом рюмку вина. Лёг на диван, принялся разбирать почту, добрался до моей книги, перелистал, наткнулся на посвящение, взволновался, позвал Евгению Сергеевну, прочёл вслух полторы страницы, относящиеся к нему, потом устал, заснул. Когда Евгения Сергеевна, обеспокоенная его долгим сном, к нему подошла, он был мёртв.
— Значит, волнение, связанное с… — побледнел я.
— Что вы! Что вы! — замахала руками Евгения Сергеевна. — Врачи сказали, так и должно было быть. Наоборот, вы ему перед смертью подарили радость… — Помолчала и добавила: — Вы не знаете, как редко приходит к людям… Как бы это сказать?.. Не официальная благодарность — ему хватало ее… Не вежливые восторги друзей — этого тоже было с избытком… А такой вот подарок давнего, живущего бог знает где ученика… Личным вниманием мы все не избалованы…
Сказала, и я вспомнил давний случай, свидетелем которого был. Поэт Кочетков Александр Сергеевич однажды позвонил Маршаку: только что прочёл сонеты Шекспира в его переводе, было с большим запозданием, как-то так получилось, что первое издание сонетов в руки к нему не попало. Маршака за эти переводы наградили Государственной премией, можно представить, сколько поздравлений он получил. И вот вышло массовое издание. Под свежим впечатлением Кочетков по телефону взволнованно заговорил, как прекрасны стихи. И Маршак на другом конце провода расплакался и, сконфуженный своими слезами, сказал:
— Простите меня! Но за эти два года ни один… ни один из моих товарищей по перу… не позвонил мне вот так просто… просто потому, что я доставил ему радость стихами… Вы первый… Личным вниманием я не избалован…
Когда разговор с Евгенией Сергеевной стал иссякать, я ища, о чем бы еще, спросил: неужели за столько лет на ее имя не было покушений? Неужели ни разу не пытались переименовать пик?
Она улыбнулась.
— Говорили мне, что было такое поползновение, но один умный человек сказал; «Пусть хоть одна женщина возносится над миром!»
Она умолкла, надолго задумавшись, А потом встала и заторопилась:
— Ну, мне надо проверить тетрадки..
— У вас ученики? — удивился я.
— Да, преподаю немецкий язык. Деньги за уроки не беру, так что у меня всегда хватает учеников… — светло улыбнулась, и мы распрощались.
Я уходил со странным чувством, будто со мной произошло необыкновенное. Впрочем, так оно и было: ведь я к самой истории прикоснулся рукой.
Но я еще не все рассказал тебе про школу… В 1923 году мне выделили комнатку и поручили создать школьную библиотеку. В районо дали ключи от подвала, где были свалены книги, реквизированные в годы революции. Перевёз все, что мог, долго разбирался в этом богатстве, помню, как выбрасывал «Своды законов Российской империи» — многотомное издание в кожаных переплётах с золотым тиснением. Завёл каталог, расставил книги по полкам и стал выдавать. Тут можно было наткнуться на что угодно: от романов графа Салиаса и детективных книжек о Нате Пинкертоне до философских фолиантов. Ницше и Штирнера. В нашей библиотеке участники общегородского школьно-театрального коллектива раскопали старинный водевиль «Графиня Эльвира», в котором солдаты исполняют роли графов и графинь. Есть там сцена, пользовавшаяся неизменным успехом: герой решает кончить жизнь самоубийством, приставляет к груди пистолет, оглядывается за сцену — ждёт выстрела, чтобы «упасть мёртвым», но с выстрелом не ладится, тогда герой хватает со стола вилку, втыкает себе в живот — в этот миг раздаётся выстрел. Скажи: ну почему и у нас с тобой так?! Когда я в отчаянии от размолвки с тобой готов умереть, ты взираешь на это с безмятежным спокойствием, но стоит мне вытворить что-нибудь нелепое, только тогда ты спохватываешься! Почему?
В нашей библиотеке было и старенькое Собрание сочинений Генрика Ибсена, по которому готовился я к городской школьной дискуссии «Брандт или Пер-Гюнт?». Большинство выступивших мальчиков и девочек были на стороне Брандта — с его философией сильной личности, готовностью жертвовать всем. Я тоже выступал и был, как догадываешься, на стороне Пер-Гюнта: весёлость ставил выше всего!
В комнате этой библиотеки, уединившись, написал я и первое в жизни стихотворение. Ей? Конечно! Вера С., худенькая, «трепетная» (так мне казалось), сидела на второй парте. Посмотреть ей в лицо не решался, как можно глядеть на божество! Если встречал на улице, уже издалека переходил на другую сторону, чтобы не столкнуться нос к носу: ничего не могло быть страшней! Потом плелся за ней далеко позади, натыкаясь на прохожих и прячась за стволами деревьев. По ночам писал ей стихи, но ни ей и никому живому ни за что не решился бы их прочесть.
Только через полгода объяснился. И как! Написал записочку «Я вас люблю», вложив в эти слова, как мне казалось, все неисчерпаемое богатство чувств. Написал так, будто я эти слова открыл и до меня никто никому никогда их не говорил. Передал послание через ее подругу, немедленно получил через те же руки ответ: «Вы мне нравитесь, но сердце моё принадлежит другому»; написано было наспех, на клочке бумаги, оторванной от тетради в косую линейку. Неделю оплакивал своё разбитое сердце, сочинил еще несколько стихотворений, а к концу недели неожиданно обнаружил: остались одни слова. Они, будто скорлупки, были пустые и уже ничего не значили. Тогда сделал вывод, что чувства поддерживаются только надеждой: отними у человека надежду, и все само собою погаснет. Теперь знаю: когда приходит Оно, все «надежды» и «разочарования» лишь игрушки для малышей.
8 апреля. Ташкент
Отличную студию построили в Ташкенте за Комсомольским озером. Походил, поглядел… И всюду сопровождала меня тень Наби Ганиева. Как бы он радовался, если б увидел нынешние ее павильоны! Ведь это он создал первую киностудию в Ташкенте, добывая каждый аппарат, каждый гвоздь, и стал ее первым директором, мечтая открыть своему народу дорогу в кино, и сделался первым кинорежиссёром-узбеком, прославив своими фильмами узбекское киноискусство, и выпестовал первые национальные кадры узбекских кинематографистов.
Шестьдесят с лишним лет назад отец Наби Ганиева привёл сына в мектеб — мусульманскую школу и сказал мулле:
— Кости у него мои, мясо — ваше. Учите его как хотите. Но если из моего сына не выйдет настоящего узбека, верного сына аллаха, то… Я мясник, я зарезал на своём веку не одну сотню баранов. Убить одного мальчишку мне будет нетрудно.
Спустя несколько лет, в 1921 году, когда Наби Ганиев сбежал из дому учиться в Москву, во Вхутемас, имам потребовал от отца, чтобы тот публично проклял сына в квартальной мечети. Но революция уже начала менять сознание людей, и старик ответил имаму:
— Я надеюсь, сын не опозорит меня! — И отказался выполнить требование, хотя это означало, что двери мечети перед ним закроются: самое тяжкое наказание для религиозного старика.
Через два года Наби Ганиев ехал домой на каникулы, по дороге, в Самаре, в вокзальной парикмахерской он побрил голову, а вернувшись в вагон, снял костюм, вместе с кепкой упрятал в чемодан и облачился в полосатый узбекский халат и в тюбетейку: своим «правоверным» видом хотел облегчить положение старика отца.
Спустя еще несколько лет, когда Наби Ганиев приступил к съёмкам фильма «Тахир и Зухра», отец спросил его:
— Скажи мне честно, сынок, выйдет ли из тебя большой человек в кино?
— А если не выйдет?
— Тогда снова езжай учиться на инженера или врача.
Широкоскулое, с толстыми губами, по-монгольски раскосое, некрасивое лицо Наби Ганиева делалось прекрасным, когда он оживлялся, разговаривая об искусстве или просто шутил. У него было своё, особое, уменье употреблять в разговоре народные поговорки. Впрочем, может быть, как человек талантливый, он их сам сочинял на ходу? Мне доставляло удовольствие записывать наиболее меткие, вот некоторые из них.
Художнику, который принёс кричащие по пестроте эскизы костюмов, он сказал: «Яркие краски скорей выцветают». Молодому режиссёру, утверждавшему, что это только кажется, что снятые им сцены плохи, а на самом деле хороши, ведь он в них повторил Эйзенштейна: «Ворона подражала гусю и вывихнула себе ногу». Критику, который после выхода фильма давал советы, как надо было снимать: «Чужими руками хорошо змею ловить». А одного мальчишку, который самонадеянно с трибуны начал рассуждать о том, как следует в фильме изображать любовь, Наби Ганиев уничтожил тихо сказанной фразой: «Бабочка рассуждала о снеге». Все рассмеялись, и больше не о чем было говорить.
Он знал, что такое любовь! «Лицо из-под паранджи, как солнце из-за тучи!» Эту фразу записал я, когда Наби Ганиев рассказывал, как познакомился со своей женой Максумой. В двадцать шестом году он руководил самодеятельностью на рабфаке, куда Максума бегала учиться под паранджой из Старого города. Было много счастливых дней… Был день, год спустя после свадьбы, когда Максума, вцепившись в руку Наби, впервые вышла с ним из дому без паранджи и, боясь взглянуть от стыда в сторону, опустив голову, прошла по своей улице; рассказывал об этом, и слезы блестели на его глазах. Он любил жену и обожал своих четверых детей, я знал, так оно и есть, хотя рассказывал он мне это в самые драматичные дни своей жизни.
«Сокол не должен влюбляться. Соколу любовь причиняет смерть», — говорят афганцы. Наби Ганиев был соколом. Он был в расцвете сил, был зрелым художником, им гордилась семья, гордилась республика. И он влюбился. Слишком слабое слово! Полюбил одну девушку так, как любят пропащие и безумцы. Он не спал ночи. Он пытался шутить по поводу своего чувства, но из глаз его лились слезы. Он в отчаянии метался, не зная, как поступить. Он сам едва мог поверить, что такое бывает. Когда один человек сделал грязный намёк в адрес его любимой, Наби Ганиев чуть не выбросил его из окна второго этажа. Говорю «чуть», потому что этого человека спасли случайные свидетели сцены, вырвав его из рук разъярённого Меджнуна.
Он знал, что не имеет права на счастье: не мог нанести смертельного удара горячо любимой семье. Да в условиях Узбекистана это вообще исключено; нельзя и думать уйти от семьи. Он должен был ото всех, решительно ото всех скрывать свою любовь, оберегая честь любимой: знал и это. Но разве может скрыть любовь от посторонних глаз смертельно влюблённый человек?!
«Одна собака залает на тень — сто собак отзовутся». У Наби Ганиева, как у всякого талантливого человека, были завистники, значит, и враги. Были и просто обиженные. Среди ташкентцев — когдатошних торговцев — еще живучи освящённые шариатом мусульманские обычаи: как следует вести себя. Неприлично громко восхищаться, надо сказать скромно: «Ничего». Неприлично воскликнуть: «Какой мерзкий тип!», прилично: «Он не обладает достоинствами». Эта мещанская сдержанность не была свойственна Наби Ганиеву, увлекавшемуся и негодовавшему от всего сердца. Его откровенные восторги и проклятия вызывали презрительные усмешки и обиды. Словом, нашлись люди, которые, узревши «тень», обрадовались, и потекли анонимки. Понятно, Ганиева в конце концов вызвали объясниться по поводу «поведения».
Разве может нравоучение, от кого бы ни исходило, образумить Меджнуна?! Я подчёркиваю: Меджнуна! Наби Ганиев был человек, обезумевший от любви. Есть люди, которые этого никогда не испытывали или испытывали лишь отблеск, лишь краткое мгновение такой любви. Они никогда этого не поймут.
Вызывало особенное недовольство, что Ганиев не признался в своей любви. Но в этом он никому не признавался! Даже мне — другу, приехавшему издалека. Не могу ручаться, что он признался в любви и самой любимой. Во всяком случае, он и это, как положено истинному влюблённому, передо мной отрицал.
— Мне нужно умереть, чтобы обрезать языки людям, которые о ней судачат! — воскликнул он, разговаривая со мной.
Как раз в эти дни — может быть, потому что перед человеком, приехавшим издалека, легче раскрыться, чем перед живущими по соседству, — Наби Ганиев выложил мне свою жизнь: это была исповедь художника и человека.
Он говорил:
— Раньше я думал, что любовь Меджнуна выдумка! Теперь понял: это история настоящей любви, когда-то случившаяся и потрясшая современников. В туркменском варианте народной легенды о Тахире и Зухре есть такая сцена. Тахира хватают разбойники, смеются над ним, когда он рассказывает, как любит Зухру. Атаман говорит; «Докажи, что в груди твоей любовь!» Тахир сказал! «Подойди ко мне!» Тот подошёл. Тахир представил себе образ Зухры, ударил себя в грудь и выдохнул воздух. Изо рта его полыхнул огонь и опалил разбойнику бороду. Тогда все поверили: «Поистине он влюблённый!» — и отпустили его. Ах, если бы я мог доказать, что действительно люблю ее больше жизни? — Поморщившись, сказал задумчиво: — Странно мне, что умирает и тот, кто ничего не знает о любви…
Понимаешь! Он уже тогда догадывался, что многие проживают жизнь и не подозревают о существовании страстной, всепоглощающей любви, потому и не верят в неё. Он описал мне свою жизнь с детства, особенно подробно рассказывал — думаю, для себя, чтоб самому все вспомнить, самому все вновь пережить и все бросить на весы, — историю того, как встретил, как полюбил, как любит жену Максуму. Спросишь: как можно любить двоих сразу? К сожалению, или к счастью, или еще точней — к чьему-то счастью, к чьему-то несчастью, такое бывает. Конечно, говорю о настоящей любви: о любви, а не о связях, не о них речь. И всего несчастней из троих тот, чьё сердце разрывается между двумя, особенно когда этот человек с таким открытым сердцем, как Наби Ганиев.
Я уехал в Москву с тяжёлым предчувствием. Из головы не выходила фраза, которую он сказал в минуту отчаяния: «Я как та девушка — со скорпионом в горле!» В Ташкенте тогда у всех на памяти был случай: одна девушка, второпях глотнула воды из носика чайника, а в носике сидел скорпион, он попал ей в горло, укусил, и девушку задушила опухоль раньше, чем успели оказать помощь.
Спустя несколько месяцев (осенью 1949 года) узнал, что Наби Ганиев тяжело заболел и умер. Потом мне рассказали: продолжал работать с яростной силой, но в своём заколдованном круге запутывался все больше. Только в работе на съёмочной площадке забывался, лицо его молодело, загоралось вдохновением и весельем, хотя перед тем несколько ночей не мог сомкнуть глаз! А там опять… приступы тоски и отчаяния. Так или иначе: он умер. О Наби Ганиеве говорят как о зачинателе узбекской кинематографии. Его фильм-легенда о трагической любви «Тахир и Зухра» занял по количеству зрителей одно из первых мест в нашей стране. А комедия «Похождения Насреддина» как произведение киноклассики нет-нет да и появится на экранах, чтобы ее могло увидеть новое поколение.
А какой был рассказчик Ганиев! Заслушаешься. Вот три истории из тех, что слышал от него...