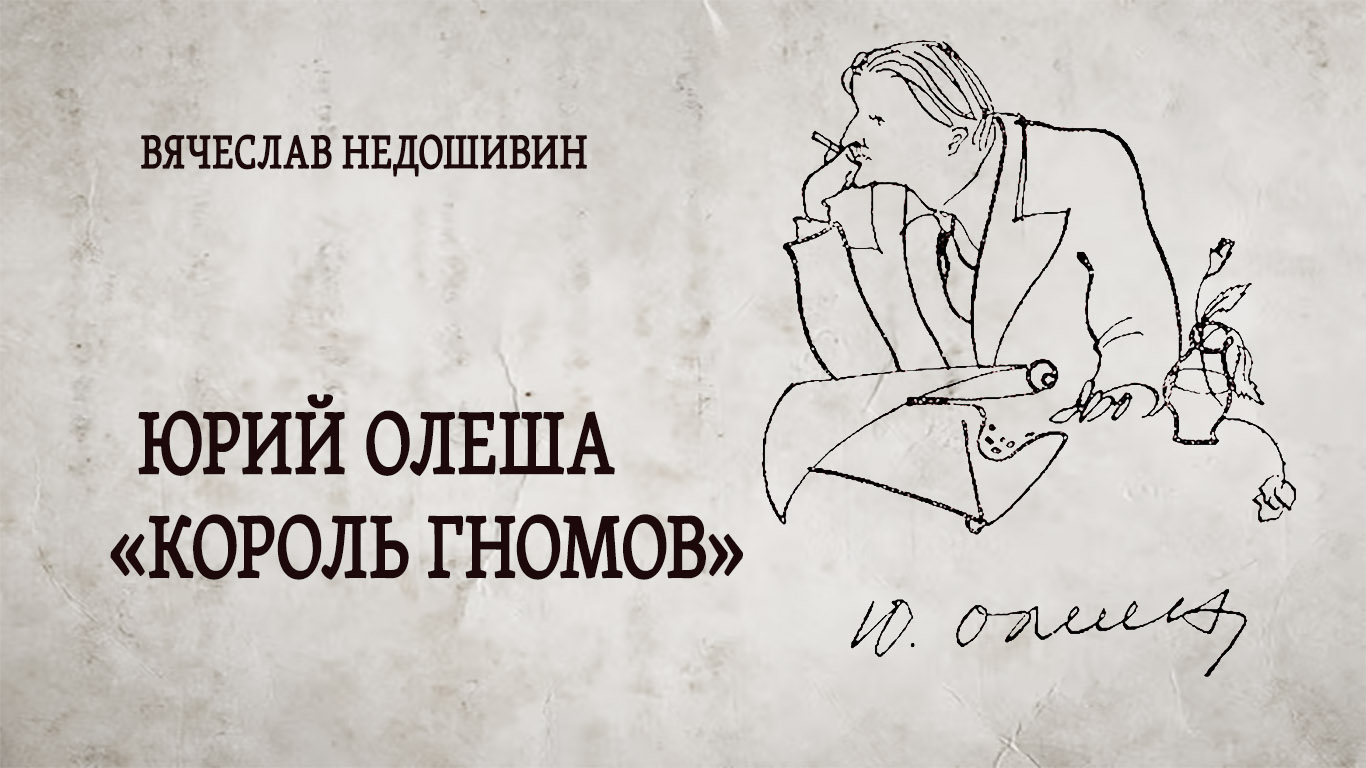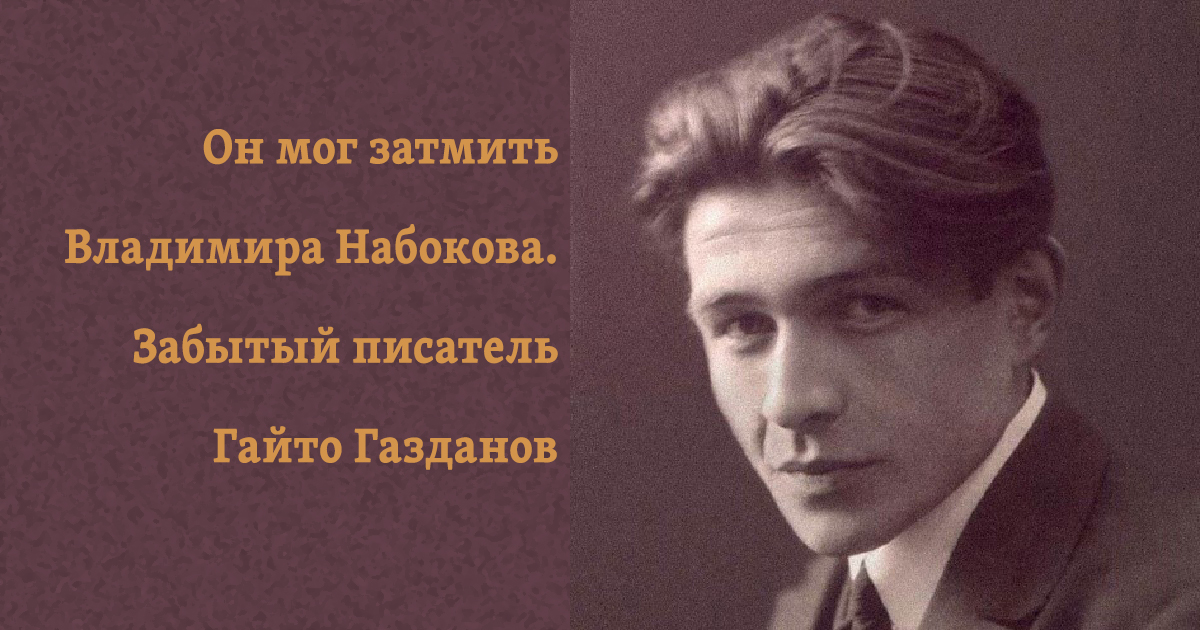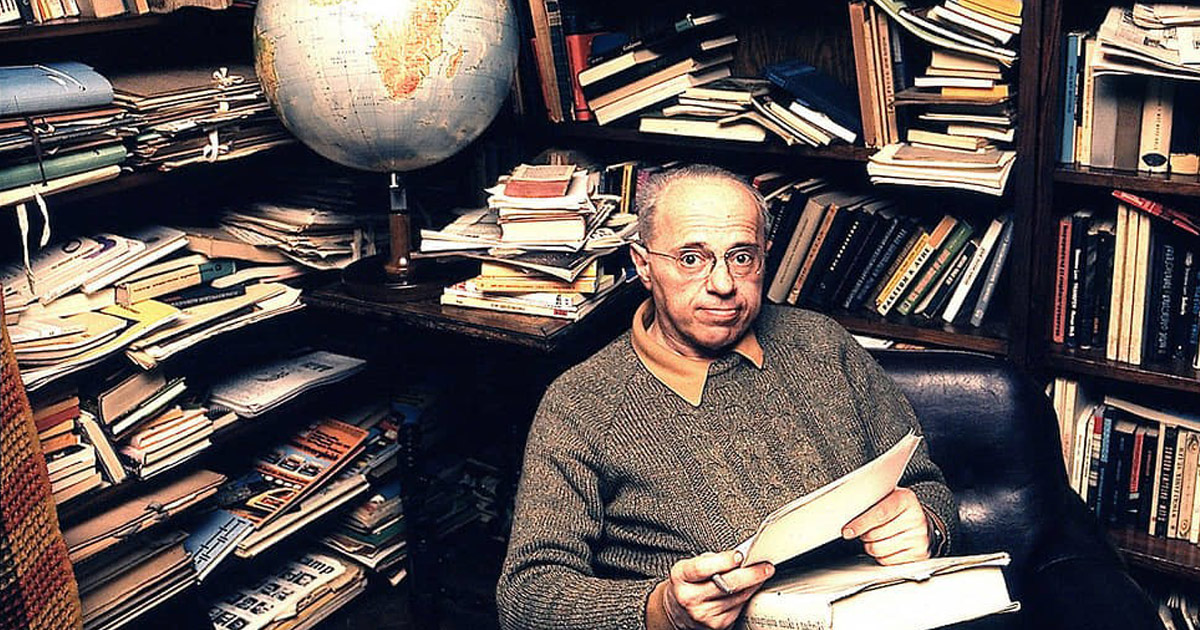Незнакомый Чуковский
Неизвестный Чуковский – это как неуловимый Джо. Его жизнь, в целом, - не секрет. Но для большинства он автор «Мойдодыра», «Айболита», «Мухи-цокотухи», автоматически в подсознании приравнивается к трёхлетним, и интерес к нему не то пропадает, а даже не возникает.
Поэтому ничего не стоит поразить собеседника простым сообщением, что недавно вышло 15-томное собр. соч. К. Чуковского 5 томов там составляют дневник и письма, а из 10 томов собственно сочинений детские занимают только 1/10 часть).
Не раз приходилась слышать: «А что, Чуковский бывал в Одессе?» Есть автобиографическая повесть, где место действия – Одесса. Есть мемориальная доска. С неправильными, правда, датами, но, не углубляясь, все же можно узнать, что да, жил. Но, видимо, этого мало.
Поэтому, и поскольку количество памятных мест неуклонно сокращается, стоит на некоторых остановиться.
Приехав в 1936 г. в Одессу Чуковский с женой обходит дорогие ему адреса и в дневнике записывает:
«Был я на Новорыбной, там, где прошло моё раннее детство. Дом номер шесть. Столбики еще целы – каменные у ворот. Я стоял у столбиков и они были выше меня, а теперь… И даже калитка та самая, которую открывал Савелий. И двор. Даже голубятня осталась…» На этом месте сейчас хрущёвка.
Называет он и другой адрес – Канатный пер., 3.
«Как жаль, что в Одессе не посетил я Канатного переулка, где прошла моя мутная и раздребежжонная молодость. Дом Баршмана! Я заплакал бы, если бы увидел его! /…/ Там я прочёл Бокля, Дарвина, Маркса, Михайловского, там я писал первые стихи, там вообще наметился пунктиром я нынешний. /…/ В доме Баршмана я узнал все, что знаю сейчас – даже больше. Там я учился английскому языку».
Дом по красной линии в войну разбомбили, но квартира Корнейчуковых была во флигеле во дворе. Если она и сохранилась в каком-то виде, то она не установлена. Но в остальном переулок уцелел. И когда Ч-й ходил по нему, он видел то же, что сегодня видим мы. Наконец, не так давно найдены документы, подтверждающие, что Ч-й жил в доме №14 по Пантелеймоновской. Это 1902-1903 г.г.
На этой улице еще в 2013 году был еще один важный адрес: д. №2.
Из той же дневниковой записи. «Тут /…/ Мария Борисовна Гольдфельд жила в “великолепном” доме Тарнопольского /…/. Мы здесь бушевали когда-то любовью – мы, два старичка, производящие какое-то дикое впечатление на прохожих…»
В 2014 г. этот дом (он еще был и памятником архитектуры) с божьим благословением снесли.
С Марией Борисовной Чуковской 26 мая 1903 г обвенчался, и они уехали в Лондон. (Чуковского командировали спец. корреспондентом от «Одесских новостей»).
М.Б. вернулась в Одессу раньше. Она поселилась на Базарной, 4, кв. 10, где жили мать и сестра К.И.
20 мая 1904 г. родился сын Николай, в будущем тоже писатель. 20 июня его крестили в Скорбященской церкви.
К.И. , понятно, не присутствовал на крещении, но в этой церкви он бывал.
Осенью Чуковский приехал из Англии, как он пишет в дневнике, «к маме и жене на Базарную улицу». Уже своей семьёй они переехали в дом № 2.
На Базарной есть еще один дом, с которым связана интересная история. Рассказал ее один из участников – Н.М. Осипович. (В прошлом народоволец, отбывший ссылку в Среднеколымске, потом – эсер. По профессии – литератор. В конце 90-х г.г., до переезда в Одессу, жил в Николаеве. Его сочинения мало кто читал, но один эпизод из воспоминаний стал известным. Он касается Троцкого. Все биографы рассказывают, как во время встречи Нового года Троцкий рассорился с А. Соколовской, и она сказала: «Никогда не подам руки этому мальчишке». Так вот, известен этот эпизод из книги Осиповича.)
Сама история. Арестовали сестру Житкова, Надежду. Осипович как-то зашёл в буфет ЛАО и услышал, как группа журналистов обсуждает это событие, а Чуковский говорит, что спровоцировал арест Г.П. Хавкин, корреспондент «Южного Обозрения». Якобы, со слов Житкова-отца, Хавкин забежал к Житковым, оставил какую-то бумажку, а следом пришли с обыском, бумажку нашли и Надежду арестовали. Осипович возмутился тем, что Ч-й обвиняет в провокаторстве народовольца, отбывшего 10-летнюю ссылку, и не где-нибудь, а на Колыме, отчитал Чуковского, предупредил, что Хавкин - человек очень популярный среди журналистской братии, и Чуковский поэтому сильно рискует. Действительно, слухи об этом обвинении быстро распространились, и один горячий репортёр уже пригрозил зарезать Чуковского, и даже показал Осиповичу кинжал. А самого Хавкина в это время в Одессе не было. Он часто куда-то пропадал. И, наконец, когда страсти уже накалились до предела, Хавкин вернулся. Он отказался бить Чуковского или вызывать на дуэль, а убедил всех, что самый правильный путь разрешения этого, с его точки зрения, недоразумения – третейский суд.
«В два дня были намечены и выбраны судьи, со стороны Хавкина – Брагинский Марк Абрамович, со стороны Чуковского – Жаботинский Владимир Евгеньевич, а супр-арбитром, конечно, Наум Леонтьевич Геккер. Я и студент Житков фигурировали в качестве свидетелей.
И вот на Базарной улице в доме № 12, в квартире Геккера идёт суд.
Мне думается, что за последние два десятилетия не было такого своеобразного судебного разбирательства, которое, благодаря блещущему остроумию и искристой иронии обвиняемого /…/ прошло при таком сплошном хохоте судей, и свидетелей, и самого истца-обвинителя. Один лишь Хавкин не смеялся, а только улыбался чуть-чуть, одними глазами.
Правда, истец, К.Ч. , смеялся «с кремнями», как определяют подобный смех евреи, означающий каменный смех, т.е., когда тот, кто смеётся, предпочёл бы провалиться сквозь землю, нежели смеяться.
Финал суда был таков. К.И. Ч., буквально на коленях, просил у Григория Павловича прощения.
Тот без малейшей аффектации простил, просто протянул ему руку, и из «зала суда» они оба вышли так: рядышком, причём маленький толстенький Хавка обнимал за талию безмерно тощего и безмерно длинного Чуковского.»
После революции выяснилось, что Хавкин действительно был провокатором.
Осипович пишет, что супр-арбитром выбрали «конечно же, Н.Л. Геккера». В 20-е годы разъяснять, кто он, не было нужды. Сегодняшнему читателю из этого «конечно же» понятно только, что он был фигурой. Геккер – народоволец, потом эсер. В 80-х г.г. на карийской каторге несколько человек покончили собой в знак протеста против телесных наказаний. Геккер стрелялся, выжил, но остался инвалидом. Тоже журналист. Жаботинский упомянул его в романе «Пятеро» (передовик-народник). В одном жандармском донесении говорилось, что «Геккер хоть и разбит параличом, но продолжает деятельно работать на благо революции».
Бросается в глаза, что все участники эпизода - активные революционеры. Это не случайно. В окружении Чуковского были с-д, с-р, бундовцы, сионисты… Он и сам прикоснулся к революционному движению. В жандармских сводках он проходит как занимающийся революционной пропагандой. В общем-то, увлечение марксизмом и революцией среди интеллигенции было тогда повальным. Но Ч-й, не разрывая связей, не перестав сочувствовать, помогать (и в Одессе, и в Куоккале он прятал политических беглецов), сделал выбор в пользу литературы.
* * *
Уже в 60-х он сказал о революции: «Нельзя было начинать такое в нищей, безграмотной, крестьянской стране. В стране, где мало было интеллигенции».
Чуковский считал, что культурный, просвещённый человек делает жизнь лучше без потрясений и революций. «Вырастить два колоса там, где рос один – вот посильная работа для каждого».
Он охотно читал лекции сам, организовывал их среди, например, отдыхающих санатория, если там оказывались люди, способные рассказать что-то интересное по их специальности.
Любил приходить в школы с лекциями, чтением своих произведений. Внучка его рассказывала, как он пришёл к ним на урок литературы, когда они проходили «Обломова». Послушал немного ответы прилежных девочек, а потом стал рассказывать, к удовольствию учеников и ужасу учительницы, что Гончаров терпеть не мог Тургенева, считал, что тот ворует у него сюжеты, и потому запирал от него на ключ ящики письменного стола. Т.е., рассказал то, чего не прочитать в учебнике, что может заинтересовать и вызвать желание прочитать книгу, не предусмотренную программой. Он ненавидел ученье «от сих до сих». И «он был убеждён, что знания, приобретённые собственными усилиями и выбором, прочнее и плодотворнее тех, которые нам произвольно сообщают другие» (Л.К.)
Чуковский писал: «/…/ человек, не испытавший горячего увлечения литературой, поэзией, музыкой, живописью, не прошедший через эту эмоциональную выучку, навсегда останется душевным уродом, как бы не преуспевал он в науке и технике. При первом знакомстве с такими людьми я всегда замечаю их страшный изъян – убожество их психики, их “тупосердие”».
Отвлечённое тупосердие даёт совершенно реальные результаты. Душевному уроду не объяснить (например) разницу между стариной и старьём. И снос дома Тарнопольского, как и других памятников, - результат деятельности безусловных душевных уродов.
Просвещение – это, в первую очередь, чтение. К концу 50-х годов у Чуковского вдруг появились деньги. И он на своём дачном участке, за свои деньги построил библиотеку для переделкинских детей.
* * *
В те времена, когда с деньгами у Чуковского было туго (а туго, или очень туго было всегда), он тоже постоянно кому-то помогал.
В начале 20-х от голода он падал в обморок, зимой в Питере ходил в летнем пальто без перчаток и шарфа, в дырявых башмаках. Когда представитель АРА попросил его посодействовать в раздаче помощи писателям, Чуковский составил список самых раздетых и голодных, а в дневнике записал: « А между тем больше всех нуждается жена моя, М. Б. У неё уже 6 зим не было тёплого пальто. Но мне неловко сказать об этом».
В то же голодные 20-е Чуковский как-то в издательстве услышал, что жене Тынянова отказали в авансе, а он нуждается. Он тут же попросил выписать деньги для Ю.Н. из его собственного аванса, и попросил никому об этом не говорить.
В Ташкенте, в эвакуации школьники читали Ч-му свои стихи, среди них был Валя Берестов. Он заболел тяжёлой пеллагрой. К.И. устроил его в больницу, потом достал путёвку в санаторий. Берестов считал себя обязанным Ч-му жизнью.
Он проталкивал чужие рукописи, устраивал на работу, находил жилье. Просто кормил. И все это – не ожидая благодарности.
В октябре 1918 г. записывает в дневник, как его пригласили к себе Мережковские, были странно-любезны, а потом обратились с просьбами.
«/…/ свести с Луначарским. Вот люди! Ругали меня на всех перекрёстках за мой, якобы, большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкипанидзе? Не могу ли я достать им бумагу – охрану от уплотнения квартир? /еще ряд просьб/ Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит – Мережковские первые будут клеветать на меня».
* * *
Особая тема – помощь политическим заключённым. Если сразу после революции заступаться за арестованных было в порядке вещей, то до чего дошла страна к 1937 году, тоже известно.
Люди боялись собственной тени. Сжигали семейные архивы. Вокруг оказавшихся в опале образовывалась пустота, с ним переставали здороваться на улице, не разговаривали по телефону.
Вдова секретаря Орджоникидзе, Елизавета Гуревич, рассказала, что когда ее и мужа в 37-м арестовали, от их 9-летней дочери отвернулись все родственники, друзья и знакомые. Кроме Чуковского. Он разыскал девочку, ходил с ней хлопотать о Гуревичах в Прокуратуру СССР, ходил в ЦК партии.
Одна уважаемая мемуаристка объяснила неучастие в помощи арестованному поэту так: «Я тогда хлопотала о близком мне человеке».
Это обыкновенно для большинства людей: собственное горе отодвигает чужие несчастья на задний план.
Но не так у Чуковского.
В августе 1937 арестовали зятя К.И., выдающегося физика М. Бронштейна. Чуковский пишет письма, собирает подписи, организовывает ходатайства об освобождении от крупных учёных, ходит по учреждениям, ищет ходы к Ульриху, Вышинскому…
В сентябре забрали Т. Габбе и А. Любарскую – подруг и сотрудниц Лидии Корнеевны (дочери К.И.) по редакции Лендетиздата. К.И. начинает хлопотать и о них.
В 1938–м арестовывают Н. Заболоцкого. Чуковский включается в его защиту.
Это не исчерпывающий перечень «подзащитных».
И тут приходят за Лидой.
Ее мужу, Бронштейну, дали «10 лет без права переписки». Было замечено, что когда мужу давали больше 8 лет, то приходили за женой. Но если она успевала скрыться, то ее не искали. Л.К. повезло: когда за ней пришли она была в Москве. Т.е., ей нельзя было возвращаться в Ленинград. Л.К., правда, вернулась, но домой не пошла, а встретилась с К.И. и дочкой в Летнем саду. Они условились о конспиративной переписке, и она уехала в Киев, к родителям мужа.
А Чуковский продолжает хлопотать обо всех, понимая, что в любой момент могут забрать и его, и сыновей. Отслеживает, приходят ли по-прежнему за Лидой…
И продолжает работать. Потому что жизнь, какая она ни ненормальная, продолжается.
* * *
Еще в 1936 г. Чуковский принимается за автобиографическую повесть, которая в первой редакции называлась «Секрет».
В феврале 1938 г. она начинает печататься в журнале «Пионер».
Все, кому доводилось видеть книги и журналы, изданные до и во время «большого террора», видели затушеванные имена редакторов, или лиц, изображённых на групповых фотографиях. А сами лица сцарапывались.
Поэтому так удивительно обнаружить среди персонажей повести доктора Коппа и гимназиста Мейера.
Доктор Копп – реальное лицо. Это муж родной сестры Жаботинского – человека, чьё имя нельзя было упоминать. Эмигрант и сионист!
Мейер – тоже реальный знакомый Чуковского. Сначала с-д, после 1906 г. отдрейфовал в христианство. При Советской власти был сослан на Соловки за принадлежность к религиозно-философскому кружку. Освободился за два года до написания «Секрета».
В том же 1938 г., уже под названием «Гимназия», повесть выходит книгой и в неё введён еще один враг народа: одноклассник Кобецкий. Член РСДРП с 1903 г., 1920-21 г.г. – секретарь исполкома Коминтерна при председателе Зиновьеве, с 1924г. на дипломатической работе. В 1937 г. расстрелян. А в 1938 его имя добавляется в повесть.
Этим отчаянным поступкам я не нахожу объяснения.
Кстати, когда с приходом Берии наступило кратковременное послабление, Габбе и Любарскую, благодаря хлопотам Ч-го, выпустили.
А Лиде К.И. среди всяких канители о лекарствах и дочкиных игрушках сообщил, что «Пётр Иванович остепенился и больше не охотится за чужими жёнами». Это означало, что за ней больше не приходят, и она может вернуться.
В 1962 г. в оксфордской речи Чуковский сказал: «Мне /…/ очень хотелось бы верить, что литература важнее и ценнее всего и что она обладает магической властью сближать разъединённых людей и примирять непримиримые народы. Иногда мне чудится, что эта вера – безумие, но бывают минуты, когда я всей душой отдаюсь этой вере».
Я думаю, что это справедливо по отношению к тем людям, которые, говоря словами Чуковского, прошли через эмоциональную выучку горячего увлечения литературой. Поэтому мне хочется, чтобы люди читали как можно больше. В том числе, Чуковского.