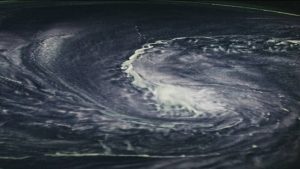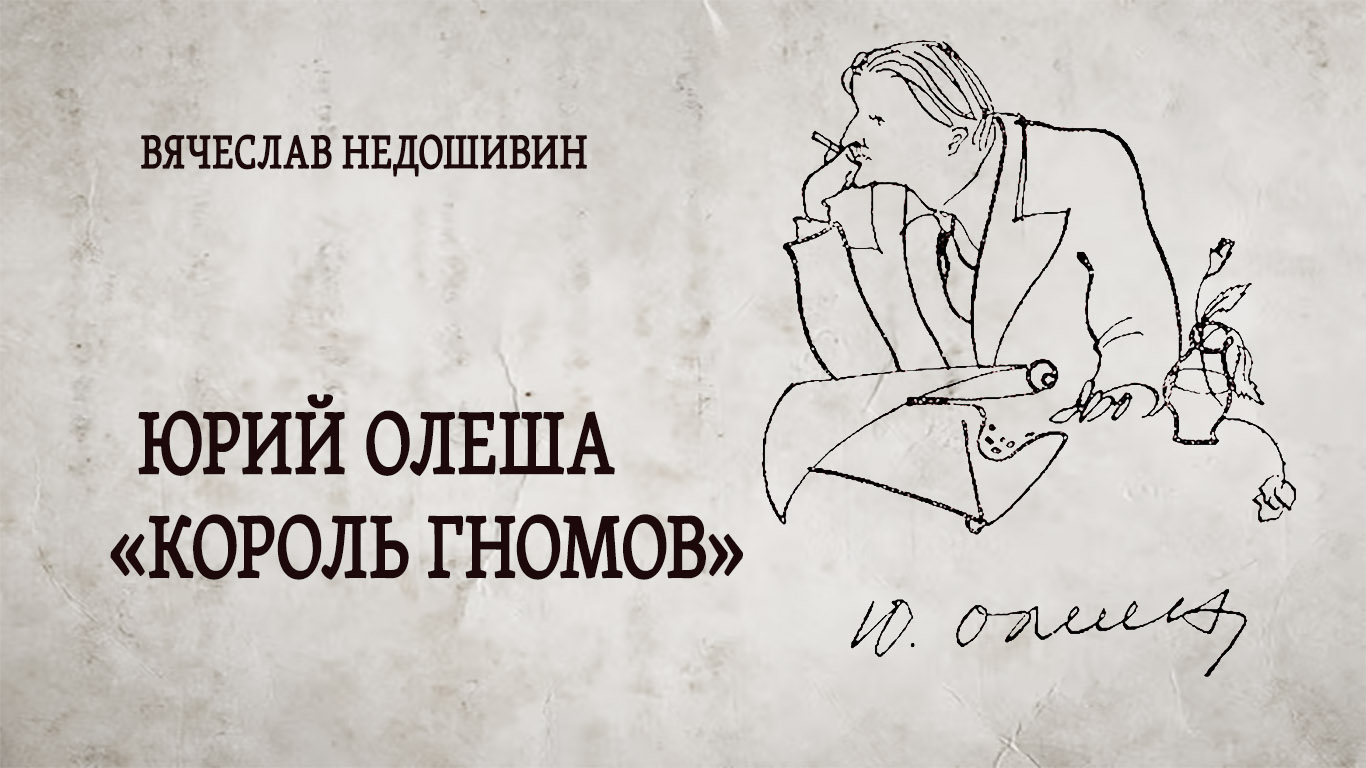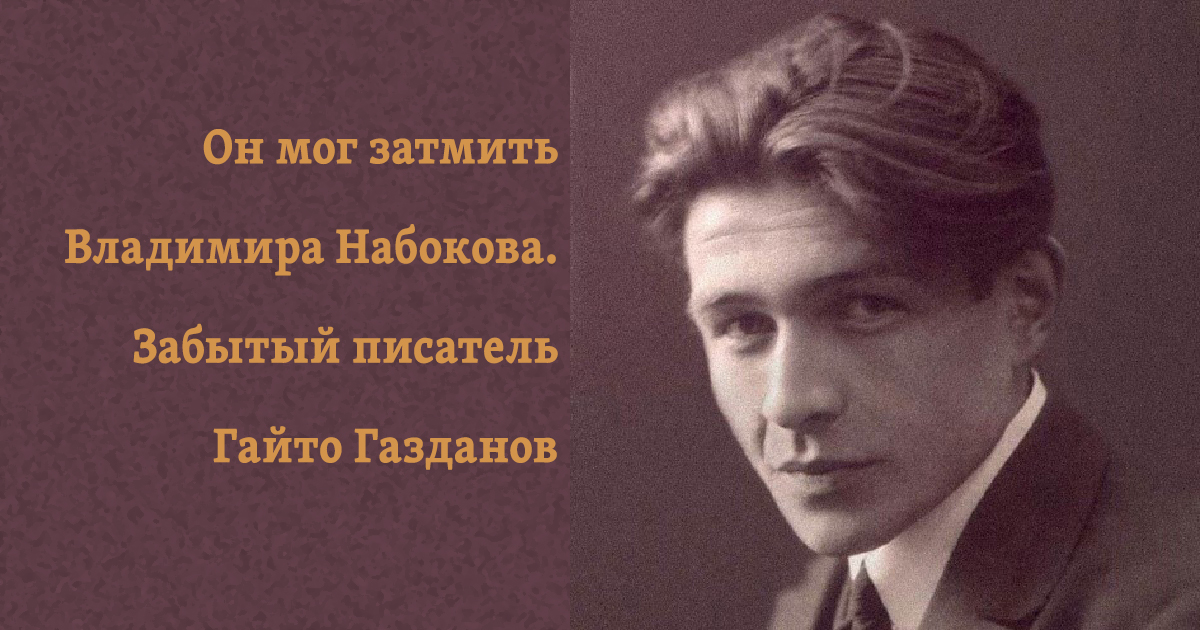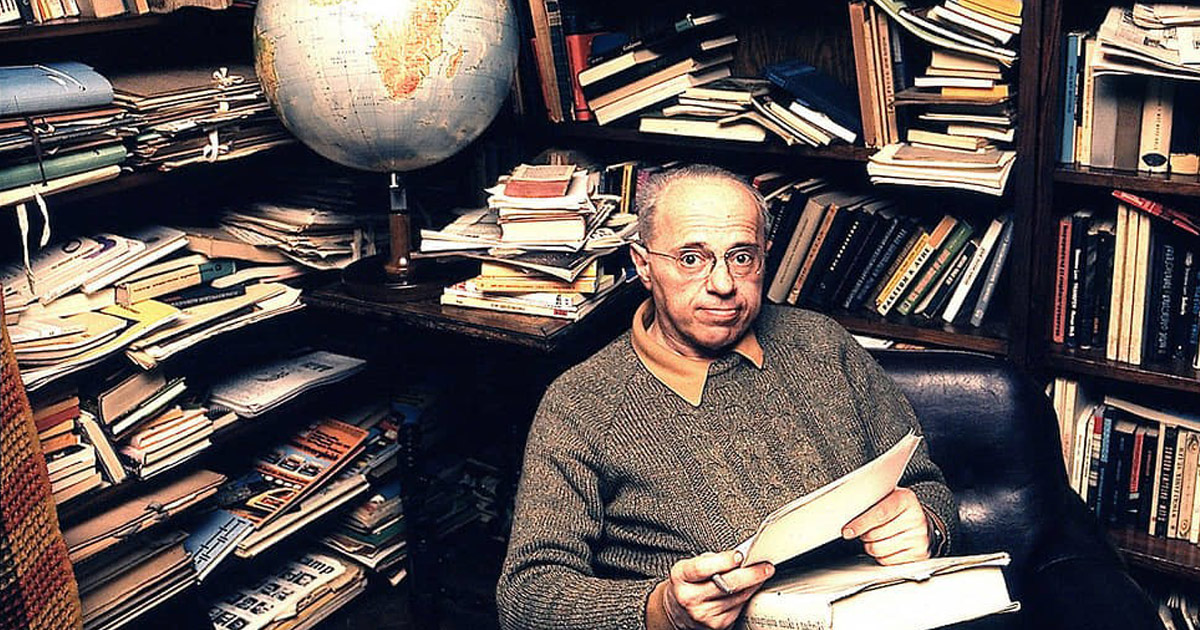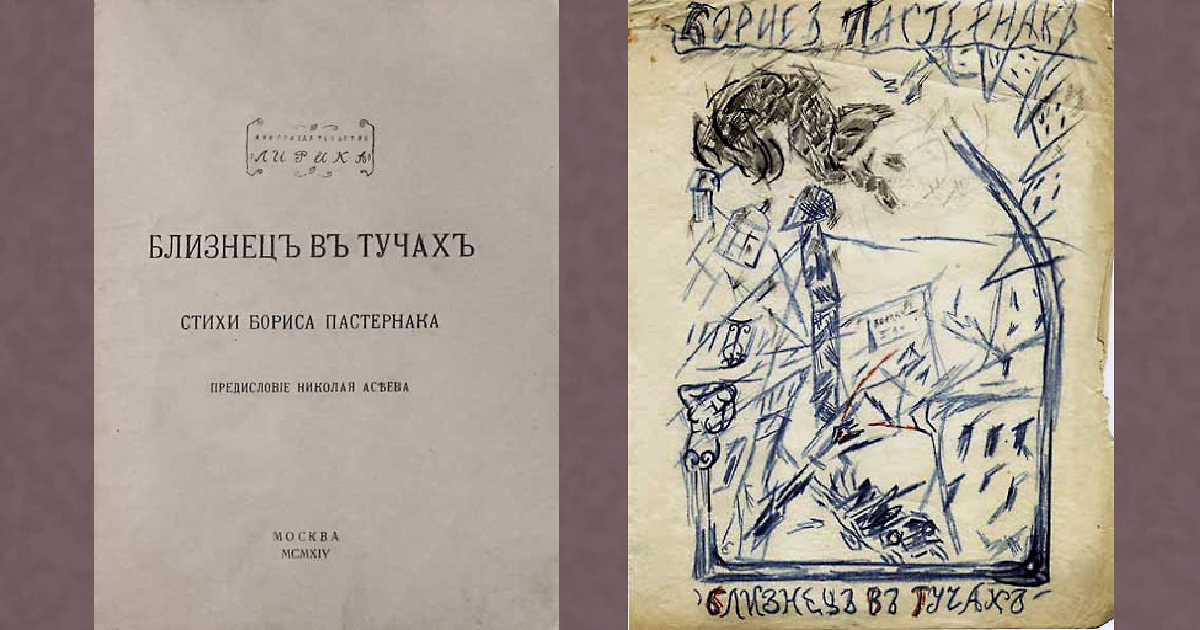Трудно быть с богом
Как «Солярис» Станислава Лема стал прощанием с верой в прогресс и перевернул научную фантастику
60 лет назад вышел «Солярис» Станислава Лема — один из самых известных научно-фантастических романов ХХ века, книга, в которой этот жанр подвергает сомнению собственные основания, а заодно и всю западную цивилизацию. Игорь Гулин рассказывает об устройстве, идеях и подтекстах «Соляриса», а также о четырех попытках перенести лемовский философский роман на экран
Фото: East News
Фантастика
У Станислава Лема было в научной фантастике особое положение. Не только потому, что он был одним из самых глубоких авторов, работавших в этом жанре. В отличие от большинства коллег, Лем был действительно вовлечен в науку. Он писал статьи по философии техники, теории мозговой деятельности и кибернетике, знал, как работает наука изнутри, и оттого был лишен и наивного преклонения перед нею, и столь же наивного страха.
Есть еще один важный момент. Научная фантастика по своей природе — имперский жанр. Почти все ее классики — жители двух космических империй, США и СССР, несколько из бывшей империи — Британии. Лем — гражданин провинциальной, растерзанной войнами Польши, уроженец средневекового Львова, большую часть жизни проживший в таком же средневековом Кракове. Он сочинял истории о покорении космоса и буйстве прогресса, но сам смотрел на оба прогрессистских проекта — социалистический и капиталистический — снаружи, из своего рода зоны вненаходимости.
Близость к науке и дистанция по отношению к идеологии позволяли ему видеть то, чего другие, слишком вовлеченные в динамику собственных культур авторы, рассмотреть не могли. Лем писал утопии («Магелланово облако»), антиутопии («Возвращение со звезд»), футурологические трактаты («Сумма технологии»), но в своей главной книге он выходит из-под власти гипнотизирующих жанр оппозиций — технофетишизма и технотревоги, апологии могущества человека и страха его ущербности. Этот выход к пределу познания разворачивается в «Солярисе» буквально как выход к океану.
Наука
«Солярис» — роман о науке. Его герои — ученые. Большую его часть занимают пересказы выдуманных научных трудов и причудливых теорий. Это «научная фантастика» пар экселанс. Одновременно с тем в книге проступает совсем другой жанр.
Завязку можно пересказать так: герой — Крис Кельвин — прибывает в разрушающийся замок (планетарную станцию), там царит запустение, глава рода (руководитель института соляристики Гибарян) только что покончил с собой, осталось двое полубезумных наследников (Сарториус и Снаут), по замку бродят призраки («гости»), за его пределами бушует страшная и загадочная стихия — океан. Это антураж готических романов, рассказов Эдгара По, романтической фантастики, но никак не книг о космических приключениях.
Возникшие в конце XVIII — начале XIX веков готический роман и фантастическая новелла романтизма были реакцией на эпоху Просвещения. Их мотив — подозрение, что знание не тотально, что у прогресса есть темная сторона: когда нечто освещается, рядом всегда остается тьма. Появившаяся спустя несколько десятилетий научная фантастика использовала открытия романтизма, но отрекалась от его сомнений в пользу оптимистической веры в прогресс. В «Солярисе» Лем разыгрывает эту диалектику на новом витке: он возвращает научную фантастику к ее полузабытым романтическим корням, рассказывая о ступоре познания внутри цивилизации далекого будущего.
Другой
Лем работает с одним из главных тропов жанра — идеей первого контакта. В фантастических романах контакт с инопланетными существами — это логический итог прогресса, тот момент, когда достигшая апогея развития человеческая цивилизация обнаруживает свое неодиночество во Вселенной, получает зеркало, в котором видит свое совершенство, и стремится к еще большему (классический пример — «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова). В этой радужной картинке есть скрытая грусть, подозрение, что, когда все тайны будут раскрыты, жизнь человека окажется пуста. Есть здесь и жульничество, попытка разрешить эту пустоту в диалоге с предположительно другим, но на самом деле таким же — говорящим на заведомо переводимом языке, разделяющим базовые установки, мысли и чувства человека — нарциссическим идолом из космоса.
В «Солярисе» Другой встречен, но он оказывается другим по-настоящему — радикально иным. Он — мыслящий океан, одноклеточный гигант, единственный обитатель планеты под двумя солнцами — не желает вступать в диалог с человеком. К моменту, когда начинается действие романа, десятилетиями владевшая умами земных интеллектуалов и обывателей соляристика пришла в упадок. Она — дело нескольких маразматиков и упертых безумцев. Только они по-прежнему пытаются вступить с океаном в контакт.
Им остались сотни теорий о том, чем собственно занят океан. Пребывает в гордом одиночестве и решает загадки бытия в форме сложнейших математических уравнений? Разыгрывает сам для себя возвышенный спектакль, преобразуя материю и время в дикие зрелища? Испытывает страсть и страдание? Или его занятия вовсе не сопоставимы ни с чем из известных человеку форм интеллектуальной и душевной жизни? В любом случае человек его будто бы не волнует, он не рад ему и не зол на него.
Диалог
Крис Кельвин прибывает на Солярис в тот момент, когда многолетнее молчание океана прерывается: контакт наконец происходит. Океан отвечает на жесткое рентгеновское облучение, и ответ его жуток. Он посылает «гостей» — загадочных существ, созданных по моделям, взятым из глубин психики обитателей станции.
Гость Кельвина — Хэри, его возлюбленная, покончившая с собой 10 лет назад. Мы мало что узнаем о гостях остальных героев, но очевидно, что им повезло гораздо меньше. Их визитеры — воплощения глубоко вытесненных фантазий, тех, с которыми человек ни за что не хотел бы встретиться наяву. Вопреки сложившейся утопии контакта, океан вступает в диалог не с разумом человека, а с его бессознательным.
Можно сказать, что инопланетный собеседник ведет себя не как мудрый учитель, какого ожидали земляне, а как психоаналитик. В одной из бесед с Кельвином Снаут замечает: все эти столетия искавший контакта человек хотел, чтобы кто-то объяснил ему самого себя, рассказал его тайну. Встречаясь с гостями, персонажи, в сущности, и получают такой рассказ. Только вместо пророчества об общем будущем Солярис обращает их к личному прошлому. Вместо откровения они обретают историю, от которой невозможно сбежать,— историю болезни.
В отличие от своих коллег, Кельвин оказывается идеальным партнером для океана в его игре. Он и так живет чувством вины и ждет ответа именно на него. Он принимает Хэри, замыкается с ней в меланхолической идиллии — театре двоих актеров, в котором заново ставится грустная пьеса с заранее известным концом.
Тайна
Хэри — вторая главная загадка романа, и эта загадка вновь включает напряжение между фантастикой научной и романтической, между знанием и его обратной стороной.
На субатомной структуре Хэри состоит не из ядер, а из нейтрино, неспособных к удержанию вместе в знакомых человеку физических условиях. Она — научный парадокс и чудо, совершенная имитация человека — более совершенная, чем он сам, практически неубиваемая, но неспособная к существованию в отдельности от хозяина. Она послана ему, а он обречен на нее. Что это за связь? Может быть, Хэри — двойник, доппельгангер погибшей возлюбленной Кельвина, кукла, созданная для него страшным мастером; может, привидение, посланное из царства мертвых в наказание за его былую жестокость.
Она напоминает и одну из фигур научной фантастики — самообучающийся искусственный интеллект. (Любопытно, что все роботы станции заперты в подвале, будто бы чтобы предотвратить встречу одного нечеловеческого ума с другим.) Вопрос кибернетики, эксплуатировавшийся в сотнях рассказов и фильмов: способна ли машина думать, а если да — способна ли она чувствовать? Хэри точно способна. Она понимает, что она «ненастоящая» — не земная девушка Криса, какой считает себя поначалу, а нечто иное, неизвестное ей самой. Она любит Криса и умирает во имя этой любви.
Остается вопрос: чья эта любовь, чьи это мысли? Собрана ли сама субъектность Хэри из фрагментов сознания Кельвина? (Отсюда обреченность на повторение земной конфигурации их отношений — смерть, воспроизводящая смерть.) Принадлежит ли она океану как реплика в его диалоге с человеком? (Реплика в форме души и тела, а не слов.) Или Хэри, а также и другие гости, действительно личности, обладающие свободой воли или хотя бы способные желать ее? И еще вопрос: что в этом для самого океана? Его собственный научный эксперимент над человеческим сознанием? Изощренная месть за облучение? Или, наоборот, подарок, ответ на тайное желание человека, как он его понимает?
Физик Сарториус, кибернетик Снаут и психолог Кельвин ищут ответы на эти вопросы и не находят их.
Бог
Финал «Соляриса» производит поразительное впечатление — возможно, потому, что Лем зашел в тупик вместе со своими героями. Он рассказывал впоследствии, что весь роман, кроме последней главы, написал одним махом за полтора месяца, а затем остановился, не зная, что делать дальше. Он нашел выход через год, и сам был удивлен ему. Здесь есть ощущение выстраданного открытия.
Разворачивающийся в «Солярисе» кризис знания обнаруживает две бездны. Первая — то, что находится по ту сторону рацио внутри самого человека; вторая — то непознаваемое, что обретается вне его,— нечто, что не может стать объектом для человеческого субъекта.
В попытках понять это нечто Кельвин логичным образом приходит к вопросу о боге. Это не обретение религиозной веры, а скорее отказ от веры в науку — атеистической рациональности ученых, представляющей собой такую же религию, культ абсолюта, систему истин и ритуалов.
Океан в чем-то подобен богу, но не являет себя как бог традиционных религий. Он почти всесилен в отношении материи, он обращается к самому сердцу человека — к его способности любить и страдать. Но он не дает ни искупления, ни кары, не указывает путь, не наделяет вещи и события смыслом. Наблюдая за ним, Кельвин высказывает гипотезу слабого, незнающего бога — действующего вслепую и ошибающегося, создавшего механизм, с которым он сам не умеет обращаться.
Катастрофа
Разговор о слабом боге между Кельвином и Снаутом из последней главы «Соляриса» озадачивает даже на фоне всех странностей этого романа (из первого советского перевода цензоры его от греха подальше выкинули). Прояснить его, кажется, может параллель в текстах другого великого литератора-еврея из Центральной Европы. Речь о Пауле Целане.
В его написанных тогда же, на рубеже 1950-х и 1960-х, стихах возникает схожий образ бога, лишенного всякой славы, бога без качеств, имя которого — Никто. Это Бог после Холокоста. Точнее, это место бога: оно освобождается в крушении иудейской веры, но не может быть ни пусто, ни занято. Эта фигура становится адресатом своеобразных молитв. В них нет просьбы, благодарения, ожидания ответа. Есть только необходимость обращения. Целан говорил о стихотворении как таинстве встречи с «совершенно Другим». Но движение к неизвестному Другому-Никому возможно только в темноте, разрушении поэтических средств, доведении искусства до кромешного предела — в проживании кризиса до конца.
Лем и Целан — авторы непохожие абсолютно во всем. И тем не менее между ними обнаруживается удивительное сходство. Речь о сомнении в средствах коммуникации (будь то язык науки, религии или поэзии) и одновременно в требовании встречи с иным — некой связи, способной возникнуть после разрушения всех связей.
Переживший кошмар нацистской оккупации, потерявший множество близких и едва не погибший сам, Лем почти никогда не говорил об этом опыте. Намеки на него разбросаны по его текстам, но в «Солярисе» их будто бы нет. Подсвечивая Целаном Лема, можно разглядеть тот след катастрофы, что остается в зоне умолчания, но определяет многое в конструирующем роман чувстве истории.
История
История и политика почти целиком выведены в «Солярисе» за скобки. Мы толком не знаем ничего о земном обществе, откуда прилетели герои. Понимаем лишь, что оно высокоразвито и там все хорошо, дорисовывая остальное по образцам из других фантастических книг эпохи. Но это не значит, что история здесь не важна. Она — между строк.
Герои «Соляриса» — родом из утопии, но в том месте, где они оказались, видна несостоятельность ее оснований. Это идея, общая для послевоенных интеллектуалов самых разных взглядов и вкусов: любое воображение гармоничного будущего предполагает вытеснение опыта катастрофы. После Освенцима и Хиросимы вера в гуманизм, просвещение, освобождающую мощь науки и техники — бесстыдно зажмуренные глаза. Этим самообманом заняты умы политиков и фантастов по обе стороны «железного занавеса». Земной цивилизации необходимо вернуться к вине, к вытесненным темным фантазиям,— она нуждается в такой же операции, какую проводит с героями романа океан.
Может быть, поэтому Лема раздражали психоаналитические интерпретации его книги, как и сведение ее к этической проблематике. Он говорит о человеке для того, чтобы сказать о человечестве. Оно, человечество, не знает себя так же, как не знает себя человек. Язык, которым оно говорило о себе и мечтало говорить с другими, больше не работает. Контакт замкнулся.
Спасти положение может лишь воображение чего-то принципиально иного — избавленного от всех идей и идеалов, ставка на которые подвела человека. Несовершенный бог Кельвина здесь — одно из возможных имен. Он — антипод того идола, служением которому заняты «рыцари святого контакта» (выражение ерника Снаута). Это бог после веры, но и после неверия; бог, не дающий ни обетования, ни проклятия. Можно перевести эту теологическую интуицию на язык идеологии: банкротство прогресса перечеркивает утопию, так же как и антиутопию, самодовольные фантазии и суетные страхи.
Будущее
Этот кризис не может быть прожит иначе как кризис глубоко личный. В лице Криса Кельвина человечество прощается с мудростью и верой, а отдельный человек — с надеждой и любовью. Но в этом прощании нет меланхолии. Скорее наоборот: оно напоминает исцеление. (Если вернуться к метафоре океана как аналитика, он — явно неплохой доктор.) Несовершенный бог не ответит человеку на желание его сердца, а человечеству на все его вопросы, но кое-что он все же может дать.
Несмотря на радикальный агностицизм, у романа Лема есть аналог среди священных текстов. Это Книга Иова — главный в мире рассказ о бессмысленности или скорее внесмысленности божественного. Как и в «Иове», в «Солярисе» бог или некто вроде бога ставит над человеком жестокий эксперимент. Как и в «Иове», он отказывается объяснять, для чего этот опыт был нужен, представляя вместо того зрелище непознаваемого, лишенного рациональности, но исполненного великолепием мира. Ответ на вопрос «зачем?» — «смотри: вот!».
В финальном свидании с океаном Кельвин прощает ему авантюру с Хэри и отказывается от требовательной веры. Будущее космической экспансии разума отменено — к нему нет возврата, как нет возврата к потерянной любви. Так рождается новое, очищенное от ожиданий, по-настоящему открытое будущее — «время жестоких чудес».
Игорь Гулин
Журнал "Коммерсантъ Weekend" №26
«Солярис». Режиссер Андрей Тарковский, 1972 Фото: Мосфильм
Фото: REUTERS/FORUM/Aleksander Jalosinski