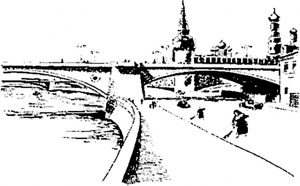В Россию и другие страны
Сентиментальные путешествия
Вольфганг Артур Рейнгольд Кёппен (нем. Wolfgang Arthur Reinhold Köppen; 23 июня 1906, Грайфсвальд — 15 марта 1996, Мюнхен) — немецкий писатель. При всём различии литературных и личных вкусов сегодня, пожалуй, все согласятся с тем, что Вольфганг Кёппен является одним из самых значительных немецкоязычных писателей послевоенного времени. Несмотря на то, что собрание его сочинений составляет всего лишь 6 томов, то есть внешне выглядит довольно скромным, Кёппен, тем не менее упоминается в одном ряду с такими писателями, как Генрих Бёлль, Гюнтер Грасс или Мартин Вальзер. Стал знаменит после написания трилогии романов «Трилогия неудач», написанных в начале 50-х годов XX века. После этого публиковал в основном записки о путешествиях и воспоминания.
Ниже публикуется ряд фрагментов из книги немецкого (до 1990 года – «западногерманского») писателя Вольфганга Кёппена (1906–1996), посетившего СССР в 1958 году – в начальный период хрущёвской «оттепели». Русские впечатления составляют в его путевом дневнике самостоятельный очерк, озаглавленный «Господин Полевой и его гость». Не вполне ориентируясь в малоизвестной ему русско-советской действительности и, кажется, не слишком задумываясь над ее подлинным, скрытым для иностранца обликом, Кёппен подробно рассказывает немецким читателям о таких событиях, которые для наших – лишь утомительная повседневность, выделяет то, что мы и вовсе не сочли бы достойным упоминания, удивляется тому, что для нас привычно. Восприятие России у Кёппена в целом отвлечённо-книжное; его наблюдения скользят по поверхности. Описывая экзотический мир социализма, писатель ощущает себя как бы путешественником-этнографом, очутившимся в новом для него жизненном измерении. Отдавая должное эрудиции и юмору Кёппена, нельзя не изумиться подчас некоторым из его суждений, высказанным искренне и совершенно всерьёз. Но именно это несовпадение социо-культурных параметров и уровней мышления («менталитетов») создаёт неожиданный литературный эффект, который захватывает и «держит» прежде всего русских читателей: всегда интересно, на самом деле, увидеть себя чужими глазами!
Читатель, хорошо знакомый с реалиями истории и быта (в частности – литературного) в Москве и Ленинграде тех лет, без труда заметит в повествовании Кёппена отдельные неточности или просто ошибки, которые – опять-таки в силу их узнаваемости – специально не оговариваются.
К.А.
Однажды я получил письмо. Маленькое, оно выглядело не слишком серьёзно. Адрес был написан словно детской рукой, и лишь на обратной стороне конверта стоял размытый, небрежный, но симпатичный голубой штемпель, пытавшийся придать этому почтовому отправлению какое-то служебное достоинство. «Посольство СССР в ФР», прочитал я на штемпеле. Буквы ФР обозначали нашу Федеративную Республику.
Посольство пролетарской страны любезно спрашивало у меня, гражданина ФР, не соглашусь ли я принять приглашение из СССР: господин Борис Полевой, председатель правления Союза советских писателей, настроен дружески и хочет показать мне свою страну. Я тотчас увидел себя укутанным в шубу, с меховой шапкой на голове, сидящим вместе с Полевым в санях. Тройка несла нас по зимней равнине. Трещал мороз. От лошадей шёл пар. В их сбруе позванивали колокольчики. Сказочные церкви возвышались в снегах – сломанные золотые кресты. За нами неслись по дороге волки: иней на вздыбившейся шерсти и голодные красные языки. Святой Марк Шагал парил над кособокими от непогоды избами, до которых мы добрались под вечер. Мы заснули в тяжёлых постелях, на широких и тёплых изразцовых печах. Мы ели ложками красный борщ, в котором плавала белая жирная сметана. Мы опустошали банки красной икры и сковородки, полные гречневой каши. Мы пили сладкий чай и крепкую водку и слушали тоскливое звучание балалайки. Ах, то была Россия почтовых открыток, разноцветных картинок, украшавших стены русских ресторанчиков Берлина и Парижа, в Мраморном шёл «Броненосец Потёмкин», в Капитолии – «Последние дни Петербурга», Пискатор ставил на Ноллендорфплатц «Распутина», в кино и на сцене хоронили царскую империю, и молодые люди, мечтавшие о благе человечества, сидели после волнующих вечерних зрелищ революции, радостно возбуждённые, в кафе горестных эмигрантов, и печальная молодая красавица, возможно, изгнанная княжна Романова, уныло накрывала на стол и подавала дешёвый ужин. Княжна затерялась позднее в военном министерстве на берегу мутного Ландверканала, в отделе, называвшемся «Восточная армия» А молодые мечтатели пошли сражаться в Россию за дело, за которое не хотели сражаться. Княжна мертва, мечтатели тоже мертвы. Борис Полевой и я, мы вызвали из забвения эти мёртвые души, нескончаемый роман о преступлении и наказании, и однажды утром при свете солнца мы увидели вереницу заключённых, бредущих на Восток по ледяному полю, и я спросил Полевого: «Все еще?» И Полевой печально ответил: «Все еще». Но потом он поднял руку и указал на толпу молодых людей, новую молодёжь России, добровольно устремившуюся в Сибирь, «юность боевая, поступь трудовая»,
— пахать неплодородную землю, выращивать на ней хлеб, проводить электричество, строить новый Чикаго.
Кое-кто станет меня бранить. Но разве Данте не принял приглашения в ад? А земной ад? Разве ад
— географически определенное место, территория, имеющая границы? Можно ли где-нибудь увидеть вывески: здесь начинается ад; здесь заканчивается рай? А если и можно – кто их установил? Можно ли им доверять? Для меня вывески ничего не значат. И я отправился в Советский Союз.
Но сначала я отправился в Бонн. Над тем же Рейном, в котором отражается наш Бундесхаус, стоит на Роландсверт просторное, хоть и сельского вида, здание, похожее на замок девятнадцатого столетия, надёжное обиталище богатых людей, – посольство СССР в ФР, и в одном из его огромных залов, в котором стены украшены гобеленами, а кресла, обитые обюссонской тканью, грезят о сахарных фабрикантах, меня принял советский посол Твердохлебов. Господин Твердохлебов был доброжелателен и дружелюбен, от имени своего правительства он дал мне без бюрократических проволочек визу на въезд и выезд, украсив штемпелем, на этот раз чётким и жирным, мой немецкий паспорт, а потом господин Твердохлебов посоветовал мне лететь в Москву скандинавской авиакомпанией через Копенгаген; я и моя семья, сказал он, мы всегда летаем через Копенгаген, это очень удобно. Но я не хотел лететь, не хотел добираться до Москвы через Копенгаген, весёлый город весёлых красивых девушек, город бутербродов и посетителей Тиволи, я хотел ехать поездом, хотел слушать и днём и ночью, как стучат колеса, колеса времени и колеса судьбы, хотел ощутить, что такое путь на Восток, наблюдать, как движется солнце и текут часы мне навстречу, хотел медленно приближаться к таинственному легендарному государству, построенному по рецепту немецкого философа там, где философы и пророки этого ожидали меньше всего, да, я хотел увидеть Железный Занавес, который, возможно, – просто химера, великая и опасная химера нашего времени, я хотел взглянуть на эту химеру, ну а если Железный Занавес не химера, хотел посмотреть, как его поднимают и можно ли сквозь него проскользнуть, и господин Твердохлебов очень удивился, когда я все это ему объяснил. <...>
Союз Писателей помещается в центре Москвы, в красивом, усадебного вида, особняке. Это дом семейства Ростовых из «Войны и мира». В этих комнатах смеялась и плакала Наташа. Союз Писателей богат. Толстой был граф. Каждый советский писатель – тоже граф, и с высоких тиражей его книг отчисляются проценты на Союз Писателей, из года в год накапливаются миллионы, и на эти миллионы строятся санатории и дома отдыха, предоставляются средства на учёбу, финансируются поездки, открываются библиотеки, авансируются неизданные работы, получают помощь больные, нуждающиеся или члены семьи умершего писателя, и так обслуживается этот извечный изгой – чудовище по имени литература. В уютной комнатке, бывшей кучерской Ростовых, меня принял человек, похожий на Хрущёва, разложил передо мной карту Советского Союза и спросил, великий искуситель, – когда еще мне, немецкому писателю, предложат многодневное путешествие по воздуху? – что бы я хотел посмотреть, куда бы хотел поехать. Манила Сибирь, манила граница с Китаем. Путь, равный расстоянию от Мюнхена до Гамбурга, сжался и стал ничтожно малым, четыре дня поездом или тринадцать часов самолётом до Самарканда превратились в сущий пустяк, и лишь намерение ехать во Владивосток было воспринято как весьма серьёзное. Я предпочёл бы остаться в столице, сидеть неделями на углу какой-нибудь улицы и смотреть на проходящих мимо Москву и Советский Союз, но в Москве не разрешается сидеть на углу, Москва не Париж, и потому я решил проехаться по Волге – по местам, где древнее сердце России, и человек, похожий на Хрущёва, одобрил мой выбор, но сказал, что Астрахань, моя конечная цель, и Каспийское море не слишком привлекательны, и предложил мне достойное завершение путешествия – Кавказ и Черное море, побережье Сочи. Кто же не соблазнится Кавказом, кому не хочется видеть Прометея и его орла? <...>
Меня пригласила редакция «Литературной газета». Я знал, что эта газета выражает точку зрения государства в области литературы, поддерживает догматические позиции социалистического реализма, ставит линию партии выше свободы творчества, и меня разбирало любопытство, какая же у нас состоится беседа. Мне уже приходилось слышать про фантастически высокие тиражи русских литературных журналов – сто тысяч, сто пятьдесят тысяч экземпляров – и поэтому меня разочаровали, нет, изумили помещения «Литературной газеты» и даже расположили к себе. В таком доме могла бы разместиться редакция бедного немецкого литературного журнала. На кряхтящем лифте, вызвавшем у меня опасение, не рухнет ли он вместе со мною, я поднялся на пятый этаж. Тесные редакционные комнаты, заставленные старомодной мебелью. Среди этой дедовской домашней утвари я увидел, к своему удивлению, маленькие сейфы – их функция и назначение остались для меня загадкой. Если редакция хранит в этих сейфах рукописи, то кто, ради Бога, собирается их украсть? Я сел на обшарпанный черный кожаный диван, господа из редакции расположились в креслах возле меня, мой Бернардус* был отстранён от перевода, эту обязанность взял на себя какой-то молодой человек с лицом фанатика, – он назвал мне, представившись, своё русское имя, но я был убеждён, что он – немец, и девушка-стенографистка со строгим лицом уселась прямо передо мной, держа в руках карандаш и блокнот и глядя на меня бесцеремонно, даже вызывающе. Самым приветливым, самым обходительным в этом кругу показался мне главный редактор, но к сожалению, он не говорил по-немецки, и мы могли с ним общаться только через переводчика. Мне задали вопрос: как относятся западногерманские писатели к войне? Я ответил, что западногерманские писатели относятся к войне с отвращением, что они отвергают и армию, и вооружение где бы то ни было, что им не по душе государства и государственные границы, им хотелось бы жить в таком мире, где царят спокойствие и терпимость, и каждый может радоваться на свой лад и писать все, что ему вздумается. Так ли это? По правде, не знаю, во всяком случае, «западногерманские писатели» – понятие собирательное, в нем есть какая-то упрощённость, я мог говорить, скорее, должен был говорить лишь от собственного имени или от имени нескольких друзей, я хотел высказать лишь своё мнение, свою точку зрения, свою надежду, и я обязан был сказать сотрудникам «Литературной газеты», что западногерманские писатели не поручали мне выступать от их имени, и что им, то есть русским, поскольку они имеют дело только со мной, следует все, что я говорю, воспринимать как моё личное мнение. Меня спросили о том, как развивается послевоенная немецкая литература, и я пытался обрисовать ее многообразные усилия и разнонаправленные тенденции. Меня спросили о том, какое направление является господствующим, и я уверял, что такого нет, отрицал наличие цензуры, отрицал конформизм, по крайней мере, в высших слоях, отрицал зависимость писателей друг от друга, я описал состояние полной свободы, приносящее счастье или несчастье, и мои собеседники были удивлены. Речь зашла о социалистическом реализме, и я сказал, что считаю его возможным, но лишь одной возможностью среди прочих, и притом довольно устаревшей возможностью, ну а реализм, превращённый в догму, – это оковы, ограничивающие талант. Я пытался объяснить, что такое магический реализм. Понятия смешались. По-видимому, мы говорили, не понимая друг друга. Я думаю, я надеюсь, что часто нас разделяют лишь общие понятия, что мы неверно толкуем слова, но все же стараемся найти какую-то правду, отобразить целый мир, постичь загадку жизни и человеческой души. Со мной не согласились. Девушка, что так бесцеремонно оглядывала меня, неожиданно спросила по-немецки, своё ли я высказал мнение. Да, ответил я, это моё мнение. Они хотели знать, что я думаю о Ремарке, они расхваливали его роман «Время жить и время умирать», называя его самым значительным произведением послевоенной немецкой литературы. Я изумился – я не читал этого романа. Это привело их в замешательство. Но и в других случаях мне казалось, что мои собеседники оценивают книгу отчасти по тому, насколько им нравится ее содержание, точнее, сюжет. Кто-то спросил о зарубежных влияниях в западногерманской литературе, и я спросил о том же в отношении русской литературы. Мы сошлись на Хемингуэе, но он был исключением, белой вороной, к которой все благосклонны, они знали Джойса и Пруста, наверняка даже восхищались ими, впрочем, сдержанно, ведь ни «Улисс», ни «Потерянное время» не рекомендовались в СССР для распространения, к Фолкнеру относились недоверчиво, хотя подчас и сочувственно, а когда я упомянул о Кафке, мои собеседники ужаснулись, как будто я преподнёс им соблазнительное, но смертельное снадобье, что меня опять-таки подзадорило, и я заговорил о романах Самюэля Беккета, и в Москве это вызвало такой же ужас, как в Париже, Лондоне или Мюнхене. Это подвело нас к вопросу о неприкаянности человека, о его одиночестве в толпе, сексуальном поведении, темных, потаённых инстинктах, об изображении в романе эротических отношений, и сотрудники «Литературной газеты* сказали, что описаний такого рода советский народ не примет, что в русской литературе не найти примеров подобной фривольности и что издавать в СССР такие книги – совершенно недопустимо. Как же соотносятся эти запреты с социалистическим реализмом, удивился я, и они посмотрели на меня укоризненно и сказали, что между одним и другим нет совершенно ничего общего. Мы не вполне убедили друг друга. Я вспомнил о Достоевском, об одном из тех, кто знал, что такое глубины, рок и греховность нашего бытия, независимо от любого общественного порядка и заповедей любой религии, но литгазетчики не согласились со мной или согласились только отчасти, а вообще говоря, оказалось, что все это – вчерашний день, они ушли далеко вперёд и давно уже справились с этими проблемами. Я занял в этом споре позиции авангарда, но посредством какой-то диалектической уловки они превратили меня в выразителя старомодных воззрений. Я все еще воспринимал художника как защитника бедствующих и страждущих, возмутителя спокойствия и борца за справедливость и радость на земле, но они сказали, что на их земле нет более бедствующих и страждущих, а как обстоит дело с радостью, так и осталось невыясненным.
Я отправился в Большой театр, Большой оперный театр, я пошёл один и слегка опоздал, поэтому моё место, как принято в России, уже занял кто-то из задних рядов. Я беспомощно заметался в проходе, но один офицер приветливым жестом предложил мне занять свободное место рядом с ним. Поднялся занавес. Я никогда прежде не видел такой гигантской сцены, такого роскошного оформления, а на сцене очень старались, и не безуспешно, воссоздать действительность, правдоподобную скучную иллюзию. Боярские покои совсем как настоящие, сад как сад, пир как пир, натуральные татары, разрушение, пожар, похищение совсем, как в кино, любовь и ревность в гареме на подлинных восточных коврах, казалось, смотришь балет по мотивам «Тысячи и одной ночи» и русской истории, сотни танцовщиков пытались его воплотить, искусство их достигало истинного совершенства, это зрелище покорило бы любую публику в буржуазной Европе или Америке, да и московские зрители были тоже покорены. Наступил антракт – ярко вспыхнули люстры. Я понял, где нахожусь, – в самом прекрасном из старомодных театров мира. Партер служил основанием сказочной башни, состоявшей из шести золотых ярусов. Перед ложей, обитой красным бархатом, светился, подобно бриллианту, символ с серпом и молотом, сияя так ярко, что сквозь него проглядывала царская корона. Ни обнажённых плеч, ни искусно шитых нарядов, ни старомодной публики, толпящейся, как в курятнике, – несколько военных мундиров, тёмные костюмы, скромные платья, какая-то пара, говорящая по-английски, во фраке и вечернем туалете, произвела бы хорошее впечатление в Лондоне или Париже, а кроме этого, как и всюду в Москве, – азиаты различного происхождения, индусы в национальной одежде, негры с умными глазами, кто-то в пуловере и рубашке без галстука, делегации, достигшие своей Мекки. В фойе – скамьи, как в царских хоромах, красный шёлк и белый лак, многолюдная подвижная толпа, каждый сам по себе, беседующих – ни одной группы, похоже, никто никого не знает, не звучат приветствия, ни о ком не злословят, никем не восхищаются, спешат в буфет, на столах – бутылки и стаканы, сами себе наливают, бросают на поднос деньги, женщины, одетые как служанки в благопристойных буржуазных семьях, развешивают на весах порции мороженого. А снаружи, за дверями театра, стояла летняя ночь, и было еще светло, журчал фонтан, над ним склонялись благовоспитанные дети и пытались в воде уловить своё отражение.
Люди сидели на скамейках, прогуливались, наслаждались вечером. Возможно, такая картина обманчива, возможно, следует видеть Москву, когда на дворе мороз и снег, но и эта мягкая ночь, это мирное счастье – несомненно, тоже Россия. В универмаге ГУМ, ярко освещённом, еще полно народу; густым потоком он растекается по улицам, словно торопясь на фабрику к началу смены. Какими чужими, потерянными и трогательными казались среди этой сутолоки большого города на заре ракетной эпохи две маленькие, по-зимнему закутанные, девчушки, торговавшие полевыми цветами. Перед гостиницей «Москва» стояла группа американских фермеров, их нейлоновые рубашки вымокли от пота, их фотоаппараты устало болтались на ремне, позади был трудный экскурсионный день, они совершили многочасовое путешествие по широким просторам, таким же, как в их стране, они ездили за город, посетили колхозное хозяйство, видели ферму, не имеющую собственника, а вернее, собственником был каждый, с кем они встречались, и вот они стоят в нерешительности перед входом в гостиницу и, кажется, даже их измученный переводчик не знает, что посоветовать и что предложить им в ночной Москве.
В ресторане официанты поставили на огромный стол графины с холодной водой, это было сделано по настоянию американцев, но официанты плохо их поняли, и лёд в графинах растаял, прежде чем гости справились с неудобными лифтами. Из репродуктора неслось задорное хоровое пение, за соседним столом говорили по-немецки. Это были немцы из другой Германии. Они сидели все вместе, точно в Лейпциге, и пили пиво «Красная Бавария». Мне хотелось выпить грузинского вина, и я заказал себе целую бутылку, чем немало удивил официанта. На этикетке стояли восточные знаки, вино оказалось тяжёлым и каким-то безвкусным, оно ударило в голову, не вызвав весёлых мыслей. За круглым столиком сидел темноволосый немолодой человек, он приветливо кивнул мне и приподнял бокал с вином, потом встал и сказал по-французски, жестко выговаривая звуки: «Вы тут В одиночестве, товарищ». Это был испанец, тоже в одиночестве, испанский эмигрант, наверное, давно живущий в России, далеко от Мадрида, я охотно предложил бы ему выпить вина, но почему-то не сделал этого, почему – не знаю, может, из робости, а когда испанец ушёл, я пожалел, что не пригласил его. В ресторан вошла элегантная пара, говорящая по-английски, и села за стол – места для неё были заказаны. Пара во фраке и вечернем туалете оказалась за тем же столом, где сидели немцы из другой Германии в обыкновенной одежде. Потом пришёл негр, а потом и фермеры, их вода со льдом уже стала тёплой, в репродукторе ликовал хор, а я сидел, размышляя о жизни людей, оказавшихся в этом зале, какие судьбы, думалось мне, какой роман.
Светило солнце. Оно светило над крышами и башнями Москвы. Все было залито утренним светом. Однако внизу, прямо под окнами моей гостиницы, двигались печальные тени. Женщины – в тёплый день они зачем-то одели тяжёлые ватные штаны, меховые куртки и высокие валенки и повязали голову темными платками, поэтому они выглядели, если смотреть сверху, какими-то жалкими маленькими гномами – таскали на примитивных носилках горячий асфальт, насыпая цементный холм, напоминавший огромный могильник, а другие женщины, одетые точно так же, раскатывали и утрамбовывали эту дымящуюся массу. Казалось, идёт строительство бомбоубежища, и со временем оно покроется землёй и цветами, а эти женщины – первые жертвы войны, по счастью, еще не начавшейся. Спускаясь в лифте, я увидел девушку, очень красивую, одетую не просто хорошо, а исключительно хорошо, ухоженные волосы и лицо, лакированные ногти; на такую можно заглядеться, даже встретив ее на Елисейских Полях. Это была русская девушка, переводчица из «Интуриста», она сопровождала в Москве трёх скандинавских профессоров. Однако выйдя на улицу, я увидел двух других совсем молоденьких девушек: своими полными обнажёнными и не по-женски мускулистыми руками они, напрягаясь, швыряли в кузов грузовика многопудовые железные сваи. Я поделился моими наблюдениями с Бернардусом. Мне было жалко женщин, таскавших асфальт, а вид юных девушек, ворочавших неподъёмные тяжести, возмутил меня. Но Бернардус сказал, что женщины работают по собственному почину, они делают это без принуждения, хотят равноправия, и мы не можем мешать им в этом. Что ж, женщины хотят равноправия с мужчинами, но разве они, строительницы дороги, не хотят походить на переводчицу «Интуриста» или продавщиц в магазинах косметики и быть такими же элегантными? Я лично предпочёл бы стать ухоженной переводчицей, нежели грузчицей железных свай, но ведь я не советский человек и, видимо, совсем не пригоден для жизни в социалистическом обществе. Мы смотрим на это иначе, – сказал Бернардус, – женщины, занятые физической работой, получают куда больше, чем переводчицы или продавщицы в магазинах косметики, они им совсем не завидуют и будут возмущены, если их лишить возможности более высокого заработка, хотя бы и тяжёлым трудом. Бернардус не смог убедить меня, участь этих женщин казалась мне слишком неравной; я высказал предположение, что у красивой переводчицы есть, вероятно, влиятельный друг или покровитель-любовник, но Бернардус с негодованием отверг эту безнравственную ситуацию, хотя и допускал другую, естественную возможность: наличие богатого родителя. Оказывается, в Советском Союзе – и это несколько обескуражило меня и вновь показало мне, до чего искажены представления об этой стране у ее друзей и недругов, – чрезвычайно выгодно иметь отца, занимающего престижную и хорошо оплачиваемую должность. Директор фабрики, например, может завещать своему отпрыску дом, роскошную обстановку, автомобиль, даже крупный счёт в сберкассе. Правда, он не может оставить ему в наследство ни фабрику, ни маленькую мастерскую, ни торговое предприятие; все это – государственная собственность. Но если ты разбогател (а этого вполне можно добиться трудом, стечением обстоятельств, выгодной должностью и не в последнюю очередь – сочинением книг и театральных пьес), ты можешь передать накопленное богатство своим наследникам. Никто не усмотрит в этом несправедливости, неравенства или покушения на священный экономический принцип. Однако, считают русские, этот принцип будет нарушен, скажем, в том случае, если скромный уличный продавец мороженого начнёт самостоятельно изготовлять свой товар и продавать его по собственным ценам. Значит', в этой стране существуют, как и всюду, удачники и неудачники, можно стать счастливым или остаться несчастным, но никто не считает несчастной девушку, выполняющую работу, от которой ее руки, плечи и мускулы выглядят как мужские. Илья Эренбург написал однажды: «Москва слезам не верит». Кажется, она и поныне не верит слезам. Иногда на улице нам встречались нищие. Я кое-что подавал им. Бернардус тоже подавал им мелочь. Но он всего лишь следовал моему примеру, проявляя сиюминутную товарищескую солидарность. Нет, он вовсе не был жестокосердным. Мне, напротив, казалось, что Бернардус добр. Но он воспринимал нищих как инородное тело в структуре советского общества, и, как европейский бюргер рубежа столетий, склонялся к тому, чтобы переложить на самих отверженных всю вину за их отверженность. Он не сочувствовал нищим. Не отождествлял себя с ними. Не мог представить себя самого, стоящего в лохмотьях на углу улицы.

Мы посетили московский дом, в котором жил Лев Толстой. Дом находится в тихой улице, позади него – склады или пивной завод, в воздухе пахнет солодом, дом построен из дерева, это сельский дом, похожий на загородную усадьбу, и все здесь оставлено в том виде, как при жизни писателя. Гостей встречают пожилая женщина и молодая девушка; они приносят нам лапти и просят переобуться. Натёртые полы, запах воска, вспоминаются пчелы, пчелиный рой и плетущий сад. Уютная квартира, высокие и красивые кафельные печи, кожаная мебель, шахматный столик, большой черный рояль, под ним – медвежья шкура. Медведя изображают врагом литературы: однажды он чуть было не задавил Толстого; но один из слуг убил зверя и вызволил графа из смертельной опасности. На лестнице стоит чучело другого медведя, поменьше; в его застывших лапах – чаша, куда бросали визитные карточки. За ширмой видны самые обычные, можно сказать, мещанские кровати, умывальник с мраморной доской, фаянсовый сосуд и кружка для воды, украшенные кувшинками. В комнате дочери, художницы, – мольберт, засохшие краски, незавершённые работы. Игрушки возле кровати сына, умершего ребёнком. Комната иностранной гувернантки – единственное помещение, от которого веет холодом и рассудочностью; ностальгические письма в Париж, пёстрые открытки в Берлин, новогодние поздравления в Лондон. Каморка для белошвеек: две узкие кровати, а между ними – швейная машина с ручным приводом. Дамская гостиная, изящная, светская, зеркала и покрывала, мирок его жены, которую он, нашёптывает молодая экскурсоводша, совсем не любил, а сбоку– его рабочий кабинет, окна в тени деревьев, необычно широкий кожаный диван, в углу – гантели, перед дверью – велосипед, который ему, шестидесятидевятилетнему старцу, подарил какой-то спортивный клуб, и он за два дня научился ездить на велосипеде и потом ежедневно катался на нем. В саду тоже ничего не изменилось, так и видишь воочию графа Толстого, бредущего по этим дорожкам, сидящего на этих скамейках, здесь цветут цветы, которые он любил, растут деревья – его деревья, некоторые из них он сам посадил. Говорят, Ленин сделал распоряжение: если в этом саду погибнет дерево, его следует немедленно заменить другим такой же породы. Этот дом не музей, но все еще жилой дом, и его покидаешь с чувством, словно побывал в гостях у Толстого, а обе управительницы, старая и молодая, как будто принадлежности дворянского быта великого человека. <...>
Москва – консервативный город. Еще мой дядя бывал в ресторане «Прага», давно, перед Первой мировой войной, и, вспоминая об этом, старик всегда умилялся. Какие устраивались там банкеты, столы ломились под тяжестью яств, играли балалаечные оркестры, танцевали казаки, танцовщицы приподымали юбочки, заливались певички. Сегодня многие хотят попасть в «Прагу», но их не пускают. У входа стоит толпа. Длиннобородый швейцар с золотыми галунами упреждающим жестом поднимает руки в белых перчатках. В карманах у него бренчит мелочь. В Москве есть деньги, много денег, люди хорошо потрудились, чтобы заработать деньги, теперь хотят их потратить. Шофёры, железнодорожники, каменщики, инженеры, сельские жители, водители кранов, работающие на стройках в степи, хотят развлечься, хотят взглянуть на столичный блеск, но все столы заказаны, все стулья заняты, рай недоступен. Я вошёл в «Прагу» как иностранец, швейцар с золотыми галунами чуть приоткрыл мне дверь, так что я мог протиснуться вовнутрь. Ресторан «Прага» не банкетный зал, это банкетный дом, трёхэтажный, и на каждом этаже сидят люди, тесно прижатые друг к другу, и справляют торжество. Какое? День рождения, юбилей, повышение по службе, сданный экзамен, производственное достижение. Играло пять или шесть оркестров. Все они играли одновременно. Пела, захлёбываясь, какая-то певица, громадная женщина, в длинном платье, грудь ее колыхалась, черные волосы разделял пробор. Но здесь уже нет ни казаков, ни танцовщиц. Казаков и танцовщиц поглотила революция. Ломятся ли столы? Они сплошь уставлены бутылками, вино, шампанское, пиво и водка, но более всего – лимонад. Бутылки с лимонадом плотно закупорены, и когда их открывают, они, как шампанское, издают хлопающий звук. Опереточный шум. Но эта оперетта лишена фривольности. Торжество справляют с размахом. Произносятся тосты. Люди желают друг другу многих лет жизни. Обнимаются, пьют на брудершафт. Сюда чаще других приходят рабочие и служащие, всем коллективом. Возможно, здесь тратят командировочные деньги. Редкие парочки сидели скромно, словно задавленные гигантскими столами. Гремят ли здесь пиры, бывают ли оргии? Царило веселье, как в обычной столовой. Сердечность и пристойность, недостаёт несдержанности и чувственности. Еда словно в «Интуристе». Икра, как всегда, хорошая. Превосходная, как всегда, сёмга. Свежие огурцы, как всегда, очень вкусные. Боюсь, мой дядя расплакался бы.
В огромном баре гостиницы «Советская* было мало народу: сюда допускались немногие. Великолепный бар, с длинной стойкой и множеством бутылок, внушавших доверие. Здесь не играл оркестр. Не лились из репродуктора песни. Ни робкого джаза, ни ликующего хора. Помещение навевает покой. В его тишине – отрада. За стойкой сидело несколько мужчин. За стойкой сидел писатель Симонов. Меня представили ему. У Симонова были печальные глаза, печальные глаза писателя. Я вспомнил о своей встрече с Хемингуэем, однажды утром, незадолго до войны, в Париже на террасе кафе «Дом»
— мы пили, и у Хемингуэя тоже были печальные глаза, печальные глаза писателя, такие же, как теперь у Симонова, после войны, или накануне войны, – какой?, – ночью в баре гостиницы «Советская». Симонов пил коктейль из водки, коньяка и лимонного сока; он предложил выпить этот коктейль и мне. Это был крепкий напиток
— сбивающий с ног. Симонов только что вернулся с Цейлона. Он говорил о джунглях. Он не говорил о литературе, о социалистическом реализме, о своих премиях, о своём журнале «Новый мир», тираж сто пятьдесят тысяч экземпляров, о романе Дудинцева, который он только что напечатал, не говорил о командире полка Сабурове из своей повести «Дни и ночи» – о герое, знавшем, что такое страх, он говорил о цейлонском солнце, о полете над Гималаями, говорил о напитках и о том, как их пить. Он мне очень понравился. Мы сидели в огромном баре гостиницы «Советская», словно в корабле. Под конец, мы остались одни. Мы не знали, куда движется этот корабль. Но мы догадывались, куда он движется. Мы знали, что море – бурное и опасное.
Я возвращался домой по безлюдным московским улицам, где разъезжали одни лишь огромные машины, чистившие или орошавшие асфальт. Многомиллионный город спал. Машины чистили асфальт мёртвого города.
В Ленинград, бывшую столицу России, город Петра, город Раскольникова, город беспокойных молодых людей, город революции, я ехал в «Голубом экспрессе» – одном из удобнейших в мире поездов. Кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая. Узнав об этом, русский царь взял карандаш и соединил Москву и Петербург прямой линией. По ней и прокладывали потом колею. Она тянется, почта минуя населённые пункты. Низины, озера. Я ехал в чудесном поезде, где одни лишь спальные вагоны, просторные, обтянутые голубым шёлком, с голубыми подушками. В каждом купе – туалет с душем. Не кричат репродукторы. В коридоре – голубые дорожки. Проводница в тёмно-голубом костюме разжигает лучинами огонь в самоваре. Вкусный горячий чай. Его приносит официантка в черном платье с белым передником. Бутерброды с икрой и сёмгой, коньяк и водка. Смех. Звон стаканов. В середине поезда – бар, крохотный, с двумя высокими стульями. Красивая девушка. Самая красивая из тех, что я видел в России. На ней брюки, плохо скроенные, широковато зауженные брюки. Девушка очень юная. Её спутник, тоже очень юный, на другом стуле. Вот они, беспокойные молодые люди, русская золотая молодёжь, о которой не пишут книг, но рассказывают легенды. Они пили лимонад и ели апельсины. Я хотел заказать симоновский коктейль из коньяка, водки и лимонного сока, но мне сказали, что лимоны кончились. Молодые люди вежливо предложили мне фрукты. Молодой человек хотел уступить мне свой стул. Нам удалось немного объясниться по-английски. Молодые люди интересовались фильмами, которых не видели, но о которых слышали. Я тоже не видел этих фильмов. Боюсь, что это скучные фильмы. Молодые люди не интересовались философами, писателями, беспокойными мятежными умами, идеями, книгами, тайнами неизвестной им абстрактной живописи. Это были серьезные молодые люди. Они увлекались кино. На каннском или венецианском фестивале они не выделялись бы из общей массы. Девушка купила бы себе хорошо скроенные узкие брюки и была бы самая красивая. Я почувствовал, что разочарован, мне стало грустно. Они отказались от предложенного мной напитка по-симоновски. Они сделали это вежливо. Они не употребляли алкогольных напитков, им просто нравилось сидеть перед стойкой на высоких стульях. Думаю, они не знали, кто такой Симонов, а, может, считали его киносценаристом. Вздумай я рассказать этим молодым людям о его печальных глазах, они бы меня не поняли. Кто в Европе или Америке знает о печальных глазах Хемингуэя?
Утром я увидел возле себя бога, только что принявшего душ. Это был сияющий, одетый в белый китель адмирал балтийского флота. На платформе его встречали штабные офицеры. Они встречали его так же, как встречали бы своего капитана офицеры грузового судна: без команды ««смирно» и щёлканья каблуками. Это мне понравилось, как понравился и сам город.
 Мы ехали по Невскому проспекту, длинной знаменитой улице, главной улице Петербурга, мимо хорошо сохранившихся домов. Я обратил внимание на магазины, множество магазинов, пёстрые и весёлые козырьки над витринами, и хотя товары, коими здесь торговали, были точно такие же, как и в остальных местах Советского Союза, но уличный пейзаж, по сравнению с Москвой, показался мне более оживлённым – приветливей, радостней, разнообразней и, значит, человечней. Люди не спешили, они прогуливались. В гостинице «Европейская» сохранился лоск когда-то наезжавшего сюда дворянства. Уютные холлы, настоящие ковры, номера с альковами, как в лупанариях, огромные кафельные печи и старомодные, гигантского размера, ванны. Ресторан словно зимний сад: зелёные растения и пальмы в кадках под стеклянной оранжерейной крышей. Стояли белые ночи, и вечерами, глядя вдоль крыш, можно было видеть прекрасный и тягостный сон. Часто вспоминалась Голландия. Мы гуляем по набережным и аллеям. Мы снова в Любеке, Гамбурге, Копенгагене. Выложенные изразцами погребки, где можно заказать устриц, солёный ветер с моря, немеркнущий горизонт, красота и надо всем этим – ожидание смерти, какая-то светлая грусть. Богатая история. Исторические памятники сохраняются с чувством благоговения. Пётр Великий верхом на морской волне, он ведёт Россию к морю. Домик в Летнем саду – летний дворец царя. В аллеях – мифологические персонажи, минервы и дианы эпохи рококо; по дорожкам, посыпанным гравием, шагают бравые краснофлотцы. Зимний дворец – зелёно-белый и все еще царственный. Здесь началась революция. Здесь она победила. Империя, получившая выход к морю, капитулировала перед командой крейсера «Аврора», поднявшего красный флаг и направившего свои орудия на Зимний. «Аврора» сейчас на якоре, тяжёлый неуклюжий ящик, ветеран русско-японской войны, неподвижный. Совсем не думаешь о его славе, думаешь о плохой еде, о червивом мясе, как на «Потемкине*. Скромный особняк. Царь подарил его своей любимой балерине. Решетчатый балкончик – отсюда Ленин провозгласил революцию. Вокруг дома бушевала людская толпа. Сегодня возле особняка – тишина, благороден его спокойный фасад, но балерина сюда уже не вернулась. Последняя нелегальная квартира Ленина в Петербурге. Каморка. Железная кровать, книжная полка, керосиновая лампа. Убогость. Можно вспомнить о Кальвине. Философы – опасные люди. Своеобразнейший памятник революции – шалаш в Разливе. Здесь скрывался Ленин. Шалаш стоит и поныне, ветхий, крытый соломой, обнесённый мемориальными каменными глыбами. Самый последний памятник революционной эпохи – ленинградское метро. Построенное позже московского, оно глубже уходит в землю и выглядит еще более роскошно. Над входами стоят храмы-ротонды. Эскалаторы, конвейеры для людского груза, бегут вверх и вниз; подъем или спуск занимает не меньше пяти минут. Ленинградцы берегут своё время. Они читают. Они стоят на эскалаторах и читают толстые книги. Под землёй поддерживается нормальная температура, работает вентиляция; станции словно галереи мраморных дворцов. Но и здесь, в этом роскошном зале, ленинградец не отрывается от своей книги. Это молодой человек, убого одетый. Наверное, он читает историю Раскольникова.
Мы ехали по Невскому проспекту, длинной знаменитой улице, главной улице Петербурга, мимо хорошо сохранившихся домов. Я обратил внимание на магазины, множество магазинов, пёстрые и весёлые козырьки над витринами, и хотя товары, коими здесь торговали, были точно такие же, как и в остальных местах Советского Союза, но уличный пейзаж, по сравнению с Москвой, показался мне более оживлённым – приветливей, радостней, разнообразней и, значит, человечней. Люди не спешили, они прогуливались. В гостинице «Европейская» сохранился лоск когда-то наезжавшего сюда дворянства. Уютные холлы, настоящие ковры, номера с альковами, как в лупанариях, огромные кафельные печи и старомодные, гигантского размера, ванны. Ресторан словно зимний сад: зелёные растения и пальмы в кадках под стеклянной оранжерейной крышей. Стояли белые ночи, и вечерами, глядя вдоль крыш, можно было видеть прекрасный и тягостный сон. Часто вспоминалась Голландия. Мы гуляем по набережным и аллеям. Мы снова в Любеке, Гамбурге, Копенгагене. Выложенные изразцами погребки, где можно заказать устриц, солёный ветер с моря, немеркнущий горизонт, красота и надо всем этим – ожидание смерти, какая-то светлая грусть. Богатая история. Исторические памятники сохраняются с чувством благоговения. Пётр Великий верхом на морской волне, он ведёт Россию к морю. Домик в Летнем саду – летний дворец царя. В аллеях – мифологические персонажи, минервы и дианы эпохи рококо; по дорожкам, посыпанным гравием, шагают бравые краснофлотцы. Зимний дворец – зелёно-белый и все еще царственный. Здесь началась революция. Здесь она победила. Империя, получившая выход к морю, капитулировала перед командой крейсера «Аврора», поднявшего красный флаг и направившего свои орудия на Зимний. «Аврора» сейчас на якоре, тяжёлый неуклюжий ящик, ветеран русско-японской войны, неподвижный. Совсем не думаешь о его славе, думаешь о плохой еде, о червивом мясе, как на «Потемкине*. Скромный особняк. Царь подарил его своей любимой балерине. Решетчатый балкончик – отсюда Ленин провозгласил революцию. Вокруг дома бушевала людская толпа. Сегодня возле особняка – тишина, благороден его спокойный фасад, но балерина сюда уже не вернулась. Последняя нелегальная квартира Ленина в Петербурге. Каморка. Железная кровать, книжная полка, керосиновая лампа. Убогость. Можно вспомнить о Кальвине. Философы – опасные люди. Своеобразнейший памятник революции – шалаш в Разливе. Здесь скрывался Ленин. Шалаш стоит и поныне, ветхий, крытый соломой, обнесённый мемориальными каменными глыбами. Самый последний памятник революционной эпохи – ленинградское метро. Построенное позже московского, оно глубже уходит в землю и выглядит еще более роскошно. Над входами стоят храмы-ротонды. Эскалаторы, конвейеры для людского груза, бегут вверх и вниз; подъем или спуск занимает не меньше пяти минут. Ленинградцы берегут своё время. Они читают. Они стоят на эскалаторах и читают толстые книги. Под землёй поддерживается нормальная температура, работает вентиляция; станции словно галереи мраморных дворцов. Но и здесь, в этом роскошном зале, ленинградец не отрывается от своей книги. Это молодой человек, убого одетый. Наверное, он читает историю Раскольникова.
Маленькая женщина, библиотекарша, ведёт меня по местам, где происходит действие в романах Достоевского. Она досконально изучила эти места. Достоевский всегда снимал квартиру в угловом доме. Окно его комнаты должно было выходить на церковь. Вот дом Раскольникова. Густонаселённый дом казарменного типа. Он и сегодня населён густо. Мрачный дом. Серая осыпавшаяся штукатурка. Во дворе – дрова, сложенные в поленницу. Каморка дворника. Здесь Раскольников взял топор и прикрепил его к петле под пальто. Топор лежит, как и прежде. Он мог бы взять его и сегодня. Но каких он мог бы умертвить чудовищ? Грязная подворотня. Красивая девочка играет в мяч. Ее огромные бездонные глаза устремлены на посетителя. Вот дом, где жила Соня. Канал. Мост. Здесь шёл Раскольников со своей скудной добычей. Тогда здесь стояли трактиры и деревянные дома. Теперь здесь каменные дома. Трактиры исчезли. Падает поразительно тусклый свет, площадь производит унылое впечатление. Сносят какой-то старый дом. Ковш экскаватора врезается в землю. Здесь будет построен Театр юных зрителей, большой и красивый, какие можно увидеть во многих городах России. Ожидая казни, Достоевский стоял на плацу казармы. Забили барабаны, возвещая о смерти, о бессмертии. Достоевский услышал, что он помилован – помилован для Мёртвого дома, для вдохновения.
В гостинице «Европейская» меня посетил молодой писатель. Он написал книгу в духе оттепели, наступившей после смерти Сталина, он был втянут в дискуссии. Мы сидели в плюшевых креслах эпохи дворянства и говорили о социалистическом реализме. Этот реализм превратился в истинный фетиш. Они задыхаются от него. Я был в Западном Берлине, сказал молодой писатель, и там на выставке не увидел ни одной реалистической картины. Я показал молодому писателю несколько репродукций с картин Бекмана и Клее. Молодой писатель назвал Бекмана большим художником. А о Клее сказал, что не понимает его. Молодой писатель хотел выпить со мной водки. Мне тоже хотелось выпить водки с молодым писателем. Идём, сказал я, идём в гавань, в какой-нибудь матросский кабак. Вы имеете в виду Клуб моряков? – спросил он. Нет, сказал я, ради Бога никаких клубов, – кабак, где сидят матросы из разных стран, кабак с развязными или сентиментальными девицами, умной серой кошкой, грязным мускулистым хозяином, старыми пьяницами и совсем опустившимися весёлыми или печальными людьми. Такого в России нет, сказал молодой писатель. Лицо его было тоже печальным. Как может процветать здесь литература?
Я шёл вдоль канала. Какие-то молодые люди, оглядев меня, двинулись за мной следом. Они заговорили со мной. Они хотели американских сигарет. Но у меня не было американских сигарет. Молодые люди были разочарованы. Они выглядят иначе, чем московские молодые люди. Они выглядят совсем по-западному, зато у московских более приятные лица. Я шёл мимо гостиницы «Астория», где поэт Есенин вскрыл себе вены и кровью написал свой гимн к небытию. Подобно Маяковскому, он был буревестником революции. В швейной мастерской, несмотря на позднее время, продолжалась работа. Двадцать молодых девушек сидели в тускло освещённом подвале, согнувшись над темными костюмами. Из большой кондитерской доносились запахи марципана, фруктов, сахара и шоколада. В пышечной выпекали горячие пышки. Люди стояли в очереди за пышками. Даже офицеры стояли в очереди – попробовать свежих и вкусных пышек.
Я посетил музей Пушкина. И вновь был растроган: как охраняется старина! Даже в труднейшие революционные и военные годы квартира поэта, обставленная прекрасной мебелью, оставалась неприкосновенной. Здесь каждый документ повествовал об интригах. Готовилась трагическая развязка, и красавица, госпожа Пушкина, смотрела с портрета, сделанного пастелью, и улыбалась как воплощённой ангел. Как ангел смерти...
[*]Так назван в книге В. Кёппена представитель Союза Писателей, сопровождавший его в Москве и поездке по Советскому Союзу {прим, переводчика).
Перевод Константина Азадовского
Рисунки Херлуфа Бидструпа