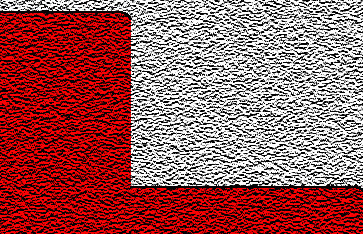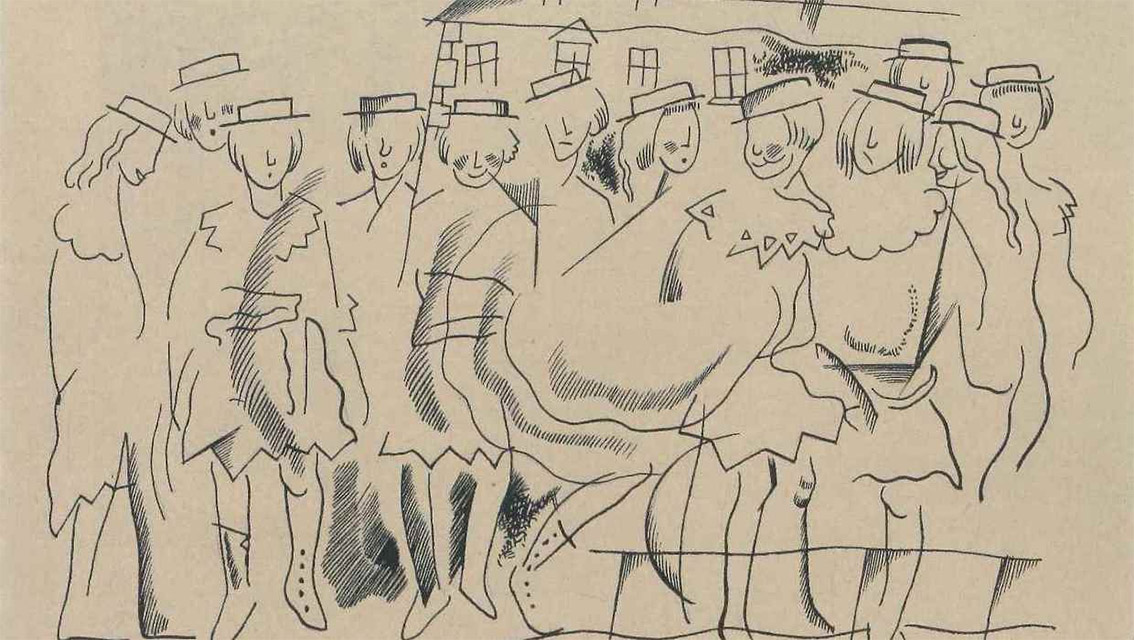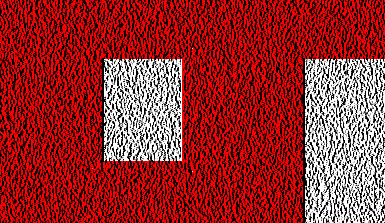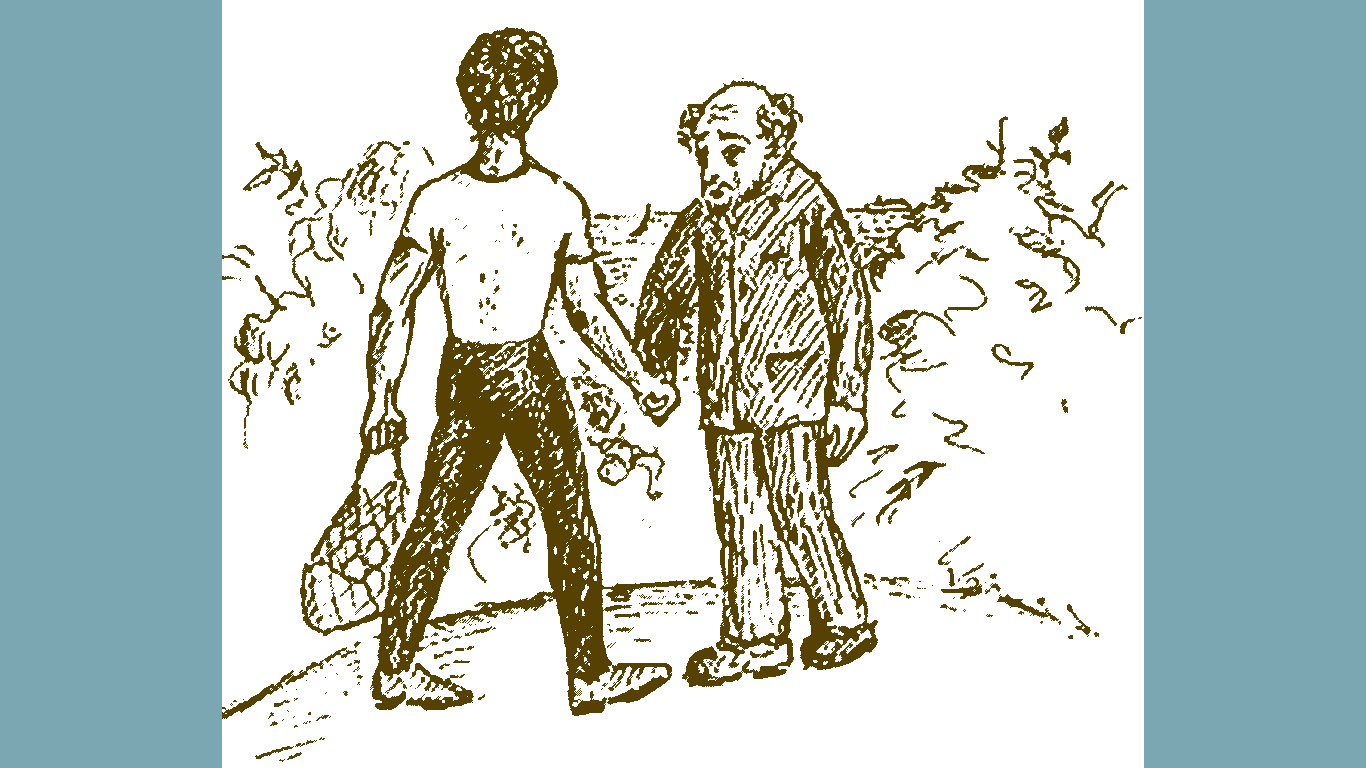Поэт, критик и публицист Юрий Колкер родился в 1946 году в Ленинграде, стихи начал сочинять дошкольником, публикуется с 1972 года, с 1984 по 1989 жил в Иерусалиме, с 1989 живет в Лондоне. С 1989 по 2002 год Колкер работал в отделе тематических передач лондонской русской службы Би-би-си. Издал пять стихотворных сборников, выпустил в 1983 году в Париже двухтомное комментированное собрание стихов Владислава Ходасевича; несколько книг вышли под его редакцией и в его переводе.
Из Лондона под разными именами
Человек, о котором пойдет речь, принадлежит к поколению шестидесятников XX века: к поколению, господствовавшему в русской интеллектуальной жизни вплоть до разрушения Берлинской стены и не сдавшему своих позиций к началу нового века. Писатель, мыслитель и журналист, он мог бы, по своей одаренности, принадлежать к числу властителей дум этого поколения или, по крайне мере, к числу стяжателей славы. Но он не укладывался в стереотипы и разрушал их, не примыкал ни к одному из интеллектуальных кланов, боровшихся за благосклонность читающей публики, многим был неудобен своею самостоятельностью — и не попал в финальный список. Слава в его эпоху отпускалась из партийных и кружковых распределителей — и в советское время, и в российском полуподполье, и в русском зарубежье.

О живом, при самых благих намерениях, всей правды не скажешь, уже просто потому, что эта правда, по счастью, отсутствует. Но попытаться в иных случаях необходимо. Попытку мы предпринимаем добросовестную, без литературного кумовства. В ее основу положены литературные тексты и многолетние частные наблюдения.
ПРОЗА
Как беллетрист, Александр Кустарев написал мало, а опубликовал и того меньше, поэтому плодотворным подходом может оказаться разговор о нем в первую очередь как об авторе одной вещи: романа Разногласия и борьба, впервые появившегося в 1988 году в тель-авивском журнале Двадцать два (там он назван повестью), а затем — в книжке Вальс, выпущенной в том же году издательством Москва-Иерусалим.
В тогдашней зарубежной русской прозе явственно чувствовался разрыв между изыскателями и повествователями. Первые, все как на подбор филологи, писали умело и изощренно, но были скучноваты, пустоваты и слишком поглощены собою; вторые, обладая даром рассказчика, не всякий раз справлялись с формой. Первым недоставало фабулы и напряженности, вторым — культуры и чувства слова. Роман Кустарева давал счастливый сплав необходимых компонентов.
Главная сцена вещи — «основательно прожидовевшая» московская гуманитарная среда лет за 10-15 до перестройки, когда КГБ уже считается с диссидентством, заигрывает и чуть ли не срастается с ним. По жанру это сатира, по фабуле — приключенческий роман в духе Трех мушкетеров. По семантической наполненности и насыщенности культурной атмосферы, по игре слов и переливам смыслов сравнить эту вещь было в ту пору не с чем. Выделялась она и лаконичностью. Автор не упивался своею властью над читателем и не злоупотреблял ею. Большой роман преспокойно уместился на ста семи страницах тель-авивского издания.
В традиционной русской прозе действие разворачивается медленно, автор и его герои склонны к отступлениям и раздумьям, тут же — погоня, занимательная сюжетная линия, отстраняющая не только рефлексию, но и детали. На переднем плане — характеры и их взаимодействие. Не пытайтесь выяснить, кто во что одет или какой скатертью покрыт стол. Нет тут и морализаторства, к которому русская проза тяготела до Набокова. Автор нейтрален даже по основному тогдашнему вопросу: он — и не советский, и не антисоветский. Это был вызов. Сейчас трудно даже вообразить себе ту остроту, с которой этот вопрос некогда стоял, и оценить дерзость человека, не пожелавшего на него отвечать. Вопрос, между тем, ушел, как того и следовало ожидать, — и самим своим уходом подчеркнул не публицистические, а художественные достоинства вещи.
Важным формальным достижением книги было преодоление искусственности диалога. Доверие к прямой речи в русской беллетристике давно уже было подорвано, и построенные на ней формы пришли в упадок. Былая достоверность пропала; там, где герои беседуют, всегда чудилась фальшь и рисовка (лучший пример — романы Солженицына, соцреализм наизнанку). Кустарев не первым попытался преодолеть эту фальшь. Не нов был и его прием, состоящий в том, чтобы скрыть, замаскировать стёршуюся в жизни грань между внутренним монологом и прямой речью, — нова была только та полнота, с которой это писателю удалось. Получилось нечто неожиданное. Композиционная самостоятельность и оригинальность вещи подчеркивалась (и тоже весьма дерзко) еще и тем, что автор как бы вышивал по чужой канве: спроецировал на современность пушкинскую Пиковую даму. У Кустарева вместо трех карт разыгрываются три архива поэта Свистунова, репрессированного в 1937 году.
Вокруг Свистунова происходят удивительные вещи.
«Суть дела, таким образом, свелась к тому, что Свистунов (посмертно) стал вроде как бы антисоветским поэтом, которого, между тем, сама власть не запрещала, а даже, наоборот, впихивала в школьное обучение чуть не в одну линию с Пушкиным и Лермонтовым. Возникла и прочно установилась такая туманная действительность, в которой одно и то же имя значило совершенно разное в зависимости от того, кто его произносил.
Власти на каждом шагу вопили "Свистунов", прославляя себя. Интеллигенция же из-за каждого угла злобно нашептывала "Ссссвистунов" и точно знала, что таким образом произносит хулу власти и, стало быть, хвалу самой себе. Обе стороны, одним словом, клялись и божились Свистуновым, и беспрестанные упоминания имени Свистунова как бы придавали обоим лагерям значительности и солидности. Фигура Свистунова помогла, таким образом, установиться в обществе своего рода холодному миру, при котором противники ведут друг с другом настоящую войну, но друг другу об этом открыто не сообщают, то есть тихо-мирно воюют друг с другом и сами себя за непримиримость уважают, но в то же время эта непримиримость никому ничего не стоит, что и слава Богу, потому что всем жить охота.
Теперь нам должно быть понятно, почему из ста диссертаций на соискание ученой степени (той или иной) гуманитарных наук по меньшей мере двадцать были в те годы посвящены Свистунову. Считай, что каждый месяц в Москве и в провинции защищалась одна такая диссертация. Кроме того, непрерывно отыскивались новые рукописи, письма, черновики, записки, заметки и устные шутки поэта, которые тут же пускались по рукам и ходили в качестве этакого всеобщего эквивалента, то есть за каждую единицу свистуновского наследия можно было либо куда-нибудь в гости попасть, на конференции выступить (в Сочи), с хорошенькой женщиной как следует познакомиться, шины для автомобиля достать или гостиницу (в Сочи) и, конечно же, самое главное — защитить диссертацию…»
Портрет Свистунова жив и выразителен. Это именно собирательный портрет. В репрессированном поэте есть черты Хлебникова, Маяковского, Заболоцкого и Олейникова, но ни с кем из них его невозможно отождествить.
Главный герой — молодой литературовед Михаил Привалов, носитель многозначительной фамилии, заставляющей вспомнить Приваловские миллионы Мамина-Сибиряка. Миллионы нового Привалова состоят в том, что от своей прабабки, террористки-народоволки Озеровой (она же, как вскоре выясняется, урожденная «девица Ойзерман») ему случайно достается архив поэта Свистунова, приходившегося «девице» сыном. На этом архиве Привалов и строит доходное предприятие в духе времени. На дворе — эпоха стервятников от культуры (culture vultures), спекулянтов, торгующих прошлым. Догадливый молодой человек, еще школьником наткнувшись на ворох рукописей Свистунова на чердаке родительской дачи, сразу понимает, что перед ним сокровище. Будущее его обеспечено, о выборе профессии нечего и гадать; на этом архиве он и академиком станет. Усиливает позицию Привалова и двоюродное родство со Свистуновым через девицу Ойзерман. Привалов приходится поэту внучатым племянником.
Дела у Привалова пошли как по маслу. Правда, на заднем плане появляется какой-то жалкий старикашка с претензиями на Свистунова, но он — только досадное недоразумение и пережиток прошлого. Для Привалова он — предок.
«Хороший предок — мертвый предок. Предок не должен быть конкурентом в жестокой, но справедливой борьбе за кусок хлеба. Предок должен быть сам куском хлеба. И то сказать: что они нам оставили, кроме самих себя? Денег они нам не оставили, потому что сами, гады, без денег сидели, с хлеба на воду перебивались. Ни фабрик, ни заводов, ни паровозов, ни пароходов. Где накопления, я вас спрашиваю, где ресурсы?»
Уже в двадцать пять лет Привалов выходит в дамки. Академическую карьеру он умело подкрепляет успехом «в свете»: в московских фрондирующих салонах; но, будучи человеком расчетливым и осмотрительным, полной ставки на диссидентство не делает. Чья возьмет, еще неясно. Кажется даже, что причудливое равновесие и сотрудничество между коррумпированной властью и коррумпированной интеллигенцией может держаться вечно, — а платит-то всё же власть. Значение эмиграции Привалов явно недооценил.
Всё идет как нельзя лучше, но вдруг выясняется, что старикашка с претензиями на Свистунова совсем не жалок. — Он умеет кусаться! — соображает Привалов. Если бы только кусаться! Преуспевающий молодой человек не понял масштабов соперника. Перед ним если не сам Мефистофель, то полноценный бес с мандатом: «старый комсомольцер», редактор издательства, Соломон Израилевич Копытман, «пятьдесят лет ходивший по проволоке» и переживший всех. Когда Привалов уже на крючке и над ним можно слегка поизмываться, Копытман вслух рассуждает в его присутствии: «Лев Давыдович [Троцкий] не удержался, Миша Кольцов [Фридлянд]сгорел, Абрам Моисеевич Прицкер, мой старый товарищ, великий рабби Прицкер, я уверен, что он стоял за спиной и Льва Давыдовича и Миши, уникальнейший был человек, и тот сгорел в 49-м, четыре года не дотянул, а я жив и здоров, ну не чудо ли?..»
Возникает бес с вестью о втором и третьем архивах Свистунова (которые, соответственно, суть семерка и туз Пиковой дамы). Новые архивы, естественно, подрывают монополию Привалова. Поначалу Копытман разыгрывает туповатого простака, называет себя слугой в культурном обществе, — но на то он и бес, тонкий, хитрый, изощренный и циничный. Он чувствует свою силу и держит в своих руках все нити. Привалова он берет голыми руками. Фигура Копытмана непрерывно укрупняется по мере развития действия, пока не заслоняет собою всё. Одну только вещь не взял в расчет старый комсомольцер: собственную смерть, в которую, видно, и сам верить перестал. Лишь она и мешает ему выехать за границу за новым свистуновским архивом — по заданию КГБ, но с израильской визой и со всем своим семейством, которому он, обведя вокруг пальца Привалова (а может, и КГБ), уже обеспечил «кусок хлеба» на Западе.
Есть в этой Пиковой даме и старуха-графиня, еврейка Белла Моисеевна Гвоздецкая-Кувалдина, урожденная Герцог. Она — действительно графиня и настоящая(Привалов, как выясняется, ненастоящий) двоюродная родственница поэта Свистунова, отцом которого, хоть и не по метрике, был некий граф Гвоздецкий. Графиня — обладательница второго архива. Привалов решается вырвать у нее нужное («старая ведьма, я заставлю тебя отвечать») — но, как и положено, в критическую минуту графиня умирает.
Перед нами — золотое сечение московской гуманитарной среды конца 1970-х. Подчеркнем: не подвижников, всегда находящихся в меньшинстве, а среды в целом. О героической стороне культуры нравственного сопротивления мы слышали много — слышали и правду, и сусальную пошлость. Необходим был портрет ее изнаночной стороны, и он появился. Более выразительного в русской литературе просто нет.
Некоторая карикатурность персонажей Кустарева не мешает им быть живыми и достоверными. Замечательны и вплетенные в повествование короткие новеллы, уводящие читателя далеко от основной сцены: в подполье русских террористов 1890-х годов, в Черниговскую область эпохи нацистской оккупации. Почти все фамилии героев — значащие или ассоциативные. Почти всюду присутствует насмешка. Иные моменты невероятно забавны — возьмите хоть агента КГБ француза де Кюстина по кличке Маркиз, свободно говорящего по-польски. Но такие виньетки нигде не акцентируются, а только украшают повествование. Роль у них служебная, автор не упивается ими, не превращает их в самоцель, — и этим тоже разительно отличается от прозаиков-изыскателей. Он владеет словом и готов при случае щегольнуть им, но его цель — не слово, а художественный анализ общества.
Почему же книга, неоднократно перепечатанная, в том числе и в России (и имеющая восторженных читателей), осталась в тени? Один из ответов таков:
«Всем было в меру интересно и каждому было что сказать. Говорили по очереди и друг друга не слушали, разве что первую фразу…»
«Каждый ходил в гениях среди трех-четырех приятелей, но такого общего гения, которому можно было бы без всякой опаски смотреть в рот, что-то не намечалось. То есть, много их там было, навалом было, несколько даже лишних, но признавать их за общие авторитеты не торопились. Признаешь, в самом деле, а потом окажется, что попал пальцем в небо, век будешь на себе волосы рвать. В условиях всеобщего ажиотажа и осторожности нужно было что-нибудь такое безусловное, какой-нибудь ничей знакомый, в котором никто особенно (в личном плане) заинтересован бы не был, такой, чтобы потом на голову не сел…»
Так в романе рассуждает Привалов, а он — типичный представитель той среды, которая не заметила Кустарева.
Но напрашиваются и еще два ответа. Новая Россия, охваченная порывом ханжеского христианства, могла увидеть в этой вещи литературу еврейскую — и не заметить ее именно как таковую. Если так, то это ошибка. Роман посвящен не еврейским, а русским делам — и шире: делам общечеловеческим. Еврейского перекоса в нем нет, как нет, впрочем, и почвеннического или какого-либо иного, — он только акцентирует то, что стыдливо замалчивалось: роль выходцев из евреев в культурной жизни советской России. Роман написан характерным представителем «основательно прожидовевшей» русской интеллигенции, верным сыном этой интеллигенции, который только талантливее большинства. В этом — в таланте, в неожиданности — кроется второй предлагаемый нами ответ: планка поднята слишком высоко. Людям, оперирующим привычными культурными знаками, не удалось классифицировать роман, найти для него полку — и они растерялись. Но в один прекрасный день может оказаться, что без этой небольшой вещи вообще невозможно понять и воссоздать короткий, но важный этап русской культурной истории: этап изживания и сбрасывания советской идеологии.
Некоторые нашумевшие, но незначительные русские романы конца 1990-х (например, Анатолия Наймана, Владимира Марамзина, Виктора Топорова) при ближайшем рассмотрении оказываются чем-то вроде запоздалого сырья к роману Кустарева. Действие в них происходит там же и в то же время, герои списаны с одних и тех же реальных лиц. Но романами эти вещи могут быть названы лишь условно — до такой степени авторы поглощены в них собою и сведением личных счетов. Ничего подобного нет у Кустарева. Он занят типизацией и поднимается до художественных обобщений.
КРИТИКА НЕ ВПОЛНЕ ЧИСТОГО РАЗУМА
Большая часть написанного Александром Кустаревым — не художественные, а философско-публицистические произведения. В них он исследует современную литературу и литературную среду, социальные функции и типы поведения. Делает он это с весьма не-академическим и даже анти-академическим задором. Вот выдержка из небольшой, но очень важной работы 1987 года, разом объясняющая строй его мысли:
«Культура кружка, вообще говоря, ориентирована на себя. Она производится и потребляется внутри самого кружка… Акт поэтического творчества незамедлительно сопровождается актом признания. Эта культура камерно-концертна, коллективна в самом прямом смысле слова.
Попав в условия письменной традиции [в эмиграции], носители этой культуры рассчитывают, что в этих других условиях привычная им атмосфера воспроизведётся сама собой. Но так не случается. Чувственно-теплая атмосфера взаимного признания исчезает. Разваливается пассивная периферия кружка, чья функция была любить и проявлять. Исчезает густая и напряженная атмосфера постоянного поощрения и благодарности… Застрельщики кружка вынуждены взять на себя функцию периферии и заняться самопоощрением. При этом они демонстрируют две другие важные черты своей культуры: авторитарность и стремление к канонизированной иерархии. Авторитарность проявляется в том, что они неустанно рассказывают одной (предполагаемой) части публики о том, как их любит другая часть публики.
Кружок — царство согласия. Он объединен, кроме единства сопереживания, единством авторитетов. Регулярность сопереживания требует постоянства и строгой иерархии. Иерархическая система незыблемых авторитетов — инфраструктура чувственной жизни кружка.
Но у письменной культуры совершенно другая инфраструктура. Письменная культура — не коллектив, а арена борьбы, поскольку на этой арене кружки стараются подавить друг друга. Этот уровень жизни, быть может, и не более возвышенный в спиритуальном смысле, но он эволюционно выше, поскольку сложнее…»
А. Кустарев. Культура кружка. Синтаксис (Париж), 17, 1987.
Совершенно ясно, о чем идет речь: об эмигрантской литературе, в своей значительной части вышедшей из шестидесятнического кружка. Портрет нарисован неотразимо верный и — уничижительный. Эта литература «гомерически провинциальна». Ее кумиры — Солженицын, Бродский и другие, помельче, — кажутся Кустареву фальшивыми, деланными, ненастоящими. Он вообще сомневается в существовании русской эмигрантской литературы и свои сомнения аргументирует тем, что большинство эмигрантских писателей (Солженицын, Максимов) понятия не имели о культуре стран, в которых жили, но при этом — что в особенности комично — пытались поучать Запад. Знаменитую формулу «мы не в изгнаньи, мы в посланьи» Кустарев называет мелодраматической.
Острая, язвительная, подчас парадоксальная критика Кустарева иногда напоминает эссе Сартра. Ей аплодируешь, даже не соглашаясь с автором. В ней сталкиваются исследователь и художник, и верх берет исследователь.
Эссеистика Кустарева соотнесена с политикой. Автор держится леволиберальных взглядов, не без основания полагая, что сегодняшний Запад не в меньшей мере создан Джорджем Мейнардом Кейнсом (а через него — и Марксом), чем Адамом Смитом. Для понимания Кустарева важно не упускать из виду и то, что он — убежденный атеист.
Наиболее значительные работы Кустарева (всего их опубликовано с 1982 года [по 2000 год, когда была написана эта статья] около пятидесяти) появились в не слишком распространенных (кружковых) журналах Синтаксис (Париж) и Двадцать два (Тель-Авив) и не дошли до читателя, которому адресованы. Другие — оказались не совсем на месте в тонких московских еженедельниках 1990-х годов, где им сопутствовал успех, но странный: в них видели, судя по всему, компиляции, а не плод оригинальной мысли. Быть может, по-настоящему прочесть их удастся лишь тогда, когда улягутся сегодняшние страсти, всё еще застилающие глаза и писателям, и читателям.
БИ-БИ-СИ
В течение пятнадцати лет, с 1984 по 1997 год, слушатели русской службы Би-Би-Си знали Александра Кустарева под его радиопсевдонимом Александр Кловер (заимствованным, между прочим, из романа Джорджа Орвелла Скотный двор). Работа на радио обнаружила другую сторону дарования этого человека. Кловер — увлекательный и обаятельный собеседник, находчивый, умеющий воодушевляться по ходу развития разговора и никогда не робеющий перед микрофоном. Пригодились тут и громадная эрудиция Кловера, прочитавшего в подлиннике немецких, французских и английских философов и публицистов; и широта его интересов, простирающихся от русской поэзии до астрофизики. В вопросах экономической географии и социологии, очень не лишних на радио, он просто был специалистом.
В Буш-хаусе, имперском здании всемирной службы Би-Би-Си на улице Стрэнд в центре Лондона, Кловер оказался в те времена, когда там бытовала шутка: «Русскую службу Би-Би-Си можно за пятнадцать минут превратить из русской в ивритскую». Действительно, сотрудников нанимали в ту пору главным образом в Израиле, но и те, кто был нанят в других странах, были в большинстве своем евреями, — просто потому, что третья эмиграция по преимуществу была еврейской. Немногие не-евреи составляли меньшинство, иные не были свободны и от антисемитизма, но в многонациональном Буш-хаусе, да и в Великобритании, где расизм осужден, опереться им было не на что. В сущности, этот антисемитизм был совершенно беспочвенным уже потому, что работавшие на русской службе евреи, будучи русскими по культуре и индифферентными к религии, сами, как правило, себя евреями не считали. В этом смысле служба была именно русской и никакой иной.
С 1989-го по 1997-й год Кловер возглавлял отдел тематических передач русской службы. Подобного начальника его коллеги не припомнят. Идеи переполняли его, но ни одна из них не принимала формы приказа, не становилась обязательной для подчиненных. Кловер с готовностью признавал свою неправоту — и вообще не помнил, что он начальник: редчайший случай полного отсутствия непосредственного властолюбия. Демократичность и эгалитаризм (понятия, важные в мировоззрении Кловера) оказались не пустыми словами, а свойствами его характера.
Отмечают коллеги и такие его качества как неорганизованность, неспособность к планомерному ведению простых административных дел. Глубокий, деятельный и творческий ум преспокойно уживается в нем с безволием и безалаберностью.
Сам Кловер рассматривает годы своего начальствования как «полную неудачу», которую объясняет своей «избыточной квалификацией». В самом деле, тогдашний рядовой продюсер русской службы (десятилетиями все сотрудники работали в должностях продюсеров; внутренней иерархии не существовало) был в первую очередь переводчиком. От него требовалось хорошее знание английского, владение русским как родным и сносные голосовые данные. Радио — культура устная; тексты, возникавшие в ходе работы службы, были однодневками: не годились даже для газет, не говоря уже о журналах. Когда в 1989 году внутри службы возникли отделы, начальниками отделов стали вчерашние продюсеры, люди, по Кловеру, «чудовищно бездарные и некомпетентные», — то есть, собственно, нелитературные, несклонные писать и не умеющие думать самостоятельно. Но вот он сам, в силу игры случая, оказался во главе отдела тематических передач. Ему почудилось, что положение можно исправить. С поистине юношеским пылом кинулся он перестраивать рутину, пытаясь вдохнуть свое содержание в косные, чиновничьи, бюрократические формы, — и не преуспел в этом.
Нужна ли была такая перестройка? Объективность и беспристрастие, составляющие главную гордость Би-Би-Си (предписанные сотрудникам в уставе корпорации), вообще говоря, не нуждаются в ярких индивидуальностях, — наоборот, поощряют анонимность. В годы глушилок силой Би-Би-Си была хорошо составленная непредвзятая сводка новостей, целиком переводная. Для советских слушателей, одуревавших от государственной лжи, простой и честный перечень фактов был глотком воды в пустыне. Отдел тематических передач возник на Би-Би-Си при отделе новостей. Для работы над тематическими передачами требовался уже не только здравый, без перекосов, взгляд, а еще и хорошее образование, чувство стиля, слог, мысль и некоторая артистичность. Включить все эти качества в критерий отбора сотрудников руководство не могло, — это значило бы превратить конвейер в писательский клуб.
Первые четыре года Кловер пытался поднять отдел тематических передач до грезившегося ему уровня. Среди уже работавших сотрудников были люди, отвечавшие его требованиям, но их было немного, и они не вполне разделяли его прожектерство. Между тем Би-Би-Си как целое (не только русская служба) на глазах «переходило из рук журналистов в руки менеджеров» (Кловер). Понятно, что дело Кловера было безнадежным. В конце концов он махнул рукой на свои преобразования и пустил всё на самотек.
Но что бы он сам ни думал о своей работе в качестве руководителя отдела, а след он оставил глубокий. У него были преданные слушатели в разных концах бывшего Советского Союза, ждавшие каждого его выхода в эфир и горько сетовавшие на его (не совсем добровольный) уход на раннюю пенсию. Своей постоянной программы Кловер не вел, но выпустил около 200 тематических передач в порядке ротации с другими сотрудниками, в частности, нередко выпускал еженедельный радиожурнал о жизни в Великобритании (Бритмаг), и еще во многих передачах участвовал. Коньком и страстью Кловера были беседы перед микрофоном со специалистами, притом нередко с несколькими сразу. Вел он такие беседы мастерски, умел пригласить в студию интересных, думающих собеседников, а вопросы избирал самые разные: от злободневных политических или экономических до исторических и геополитических.
ФОРМА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЯ
Этот очерк — не агиография, а добросовестная портретная зарисовка. Недостатки большого человека важны для понимания его достоинств. В случае Кустарева-Кловера отметить их необходимо еще и потому, что настоящей критики на него, насколько нам известно, никогда не было.
В художественной прозе Кустарева найден замечательный тон и ракурс. Стилистические огрехи, которые в ней изредка встречаются, легко могли бы быть устранены, попади она в руки хорошего редактора из числа представителей сословия, списанного в России на пенсию после разрушения Берлинской стены.
В несравненно большей степени стилистической доработки требует его эссеистика.
«Мы не ставим перед собой цели выяснить специфику кружковой культуры советского общества. Мы лишь пытаемся обнаружить ее свойства. Насколько они специфичны — другой вопрос…»
А. Кустарев. Культура кружка. Синтаксис (Париж), 17, 1987.
Что хочет оттенить автор, понять нельзя, — ведь специфика и есть совокупность свойств. Такое неряшливое обращение со словом (или неумение работать с ним) в значительной степени подрывает доверие к тексту, закрывает философскую прозу Кустарева от читателей, требовательных к языку. Автор словно бы не помнит, что литературная мысль неотделима от воплощающей ее формы.
Выразительно лаконичный в беллетристике, в своих очерках Кустарев иногда излишне и неоправданно словоохотлив. Местоимение первого лица единственного числа назойливо появляется у него там, где без него можно обойтись, — как если бы член кружка обращался к другим членам кружка, хорошо его знающим. Композиция, пунктуация и графика текста слишком часто поддаются улучшению. Не служит делу, например, злоупотребление кавычками, всегда — в любом тексте — свидетельствующее о душевной лени. Оно сближает Кустарева с одним из самых неприятных кружков: с авторами советских газетных передовиц, догадавшихся использовать кавычки для придания слову иронического оттенка.
ВСЁ ПО ПОРЯДКУ
Настоящее имя Александра Кустарева и Александра Кловера (он же — Олег Кустарев, О. Кустарев, А. Пташкин, А. К.) — Александр Сергеевич Донде. По происхождению и корням он — типичный представитель «основательно прожидовевшей» русской интеллигенции второй половины XX века. Он родился в Ленинграде, в 1938 году. Мать его происходила из русской поповской семьи, однако училась в знаменитой петербургской лютеранской школе Петершуле и по воспитанию была настоящей немкой. Отец принадлежал к ассимилированной еврейской семье. Дед по отцу, Давид Исаевич Донде, занимался писчебумажной торговлей в Поволжье, а затем был управляющим бумажными фабриками князя Паскевича в Белоруссии. После революции он вернулся к торговле и был несколько лет директором Ленбумтреста. Прадед писателя, Исай Донде, был в конце прошлого века юристом в Вильне.
Через виленскую бабушку Эмму Исаковну Пташкину А. С. Донде в родстве с известными киевскими фамилиями: ювелирами Маршаками, врачами и юристами Бродами. Э. И. Пташкиной приходились двоюродными братьями немецкий математик Герман Минковский (1864-1909; учитель Эйнштейна, один из создателей математического аппарата специальной теории относительности) и немецкий врач Оскар Минковский (1858-1931), специалист по диабету, вплотную подошедший к выяснению роли инсулина. Двоюродный дядя писателя, Игнатий Осипович Брод, был крупным геологом-нефтяником, проректором и заведующим кафедрой в МГУ.
Воспитание А. С. Донде получил интернациональное. Повышенного интереса к еврейской культуре и истории в семье не было, но после войны, в обстановке обострившегося советского антисемитизма, родственники писателя даже несколько бравировали своим еврейством. Не была исключением и его русская мать, воспитанная в духе юдофильства. К советской власти в семье относились с презрительным недоумением.
Детство писателя было, судя по всему, счастливым. С 1947 по 1953 год он жил в Соликамске, где его отец возглавлял строительство бумажного комбината, затем до 1955 года — в Перми и деревне Коряжме Архангельской области. В 1955 он едет учиться в Ленинград и оказывается под покровительством сестры матери, тетушки Натальи Георгиевны Поспеловой. Эта женщина, тоже выпускница Петершуле, занималась политэкономией, профессорствовала в финансово-экономическом институте и в технологическом институте (заведовала кафедрой), а в ленинградском университете была деканом экономического факультета. Как и мать писателя, Наталья Георгиевна была совершеннейшая немка. Она внушила А. С. Донде глубочайший интерес к немецкому языку и культуре, так что в зрелые годы он читал художественную литературу преимущественно по-немецки, последовательно пройдя через влияние Гофмана, Томаса Манна, Гессе, Брехта, Эриха Кестнера, Кафки, Роберта Музиля и Карла Краусса.
В первый класс Саша Донде не ходил: мать сама занималась его воспитанием и образованием. В школе определилось его главное качество: неготовность идти в ногу с коллективом, которое сам он склонен определять многозначительным словом аутсайдерство. По мысли писателя, «аутсайдерство никогда не бывает полностью добровольным, но элемент добровольности в нем всегда присутствует». Человек, не склонный к аутсайдерству, становится конформистом.
В школе и во дворе сын большого начальника чувствовал себя чужаком. Его обзывали евреем — но не столько за неблагозвучность фамилии и необычную внешность, сколько за интеллигентность, ибо как раз в эти годы стихийный народный антисемитизм приравнивает интеллигента к еврею. Однако через подобное отношение к себе прошли многие. Необычным в судьбе Донде было другое: он, отщепенец среди мальчишек советского послевоенного двора, оказался добровольным отщепенцем и в культурной среде хрущевской оттепели, в оппозиционном интеллигентском ленинградском салоне 1960-х годов. Его отталкивал снобизм этого салона, самодовольство его участников (сплошь непризнанных гениев), их претензии на духовный аристократизм. Тут в Донде проснулся интерес к социологическим наблюдениям. Он взглянул на советскую альтернативную культуру глазами нового Лабрюйера.
Отщепенец, даже сознательный, добровольный и самостоятельный, не может не испытывать некоторой тоски по дому. Ему, как решительно всем, необходим круг, в котором его ценят и понимают с полуслова. Неготовность подлаживаться к существующему кругу и проходить в нем стадию ученичества естественным образом подводит отщепенца к мысли разом встать над этим кругом, подчинить его себе — и изменить в соответствии со своими представлениями. Этот наполеоновский ход рельефнее всего осуществил в послесталинской России Иосиф Бродский. Тысячам других честолюбивых молодых людей такой большой скачок не удался. Среди прочих остался в стороне и Донде. Но мысль его была деятельна, и он сумел извлечь лучшее из положения аутсайдера: научился наблюдать нравы, различать особенности среды, неразличимые изнутри. Это был интерес ученого.
Подобно Александру Зиновьеву (автору Зияющих высот), Донде пытается совместить синтетическое осмысление действительности с аналитическим. Этот подход не был в 1960-е годы совершенно уникален, но в России он был нов и непривычен. Те, кто прибегал к нему, чувствовали себя гуманитариями среди естественников и естественниками среди гуманитариев, причем и та и другая среда выталкивала их как существа инородные. В душе считая себя писателем и мыслителем, Донде выбрал естественнонаучную специальность, не требующую, однако, излишней строгости и усидчивости: занялся экономической географией. Недоброжелательный критик скажет, что это было с его стороны конформизмом: советская действительность подталкивала скорее к академической карьере, чем к совершенно бесперспективному писательству. Мы, однако, отметим другое: общей чертой советской послевоенной интеллигенции было позднее взросление. Очень многие находили себя только годам к тридцати пяти, к сорока. Советская действительность убивала инициативу, подрывала веру в себя, не оставляла места для вдохновенной авантюры, составляющей самый нерв цивилизации. Как и большинство, Донде взрослел медленно, а нечто мальчишеское в своем поведении удержал до седин.
Между тем музы ревнивы. Карьера ученого, как и писателя, требует полной отдачи. Разброс интересов мешает не только успеху, но и становлению, — и Донде, легко защитивший кандидатскую диссертацию (по экономической географии стран третьего мира), крупным специалистом не стал. Внешние помехи (антисемитизм, идеологический гнет) сыграли тут второстепенную роль, причина же была внутренняя. Ее можно определить как крайнюю неуравновешенность Донде, неспособность к систематическим занятиям, родственную детской гиперактивности. В годы аспирантства его кидало в самые разные стороны: на немецкую литературу, археологию, французский язык, медиевистику, теорию и историю права, математическую логику, физиологию, — а ведь нужно было еще и диссертацию писать. От беспорядочного чтения остался устойчивый интерес к социологии — да сознание того, что можно было бы лучше распорядиться своим временем и способностями.
Разум и чувственность вступили в писателе в любопытное взаимодействие: чувственность обычная, романтически окрашенная, цветаевские розовые цепи, — не играла в его характере и жизни заметной роли, лирическая поэзия не нашла доступа к его сердцу; зато к игре ума, к мысли — у Донде сложилось отношение поистине чувственное и страстное.
Понятно, что с поисками социальной ниши возникли трудности. Декартовское cogito ergo sum (мыслю, следовательно существую) необходимо было преобразовать в scribeo ergo sum (пишу, следовательно существую), — но писать было невероятно трудно. Готовой формы размашистого, композиционно свободного интеллектуального очерка с экскурсами в естественные науки в советской России не существовало. Не было его и в русской эмиграции, — между тем писать сдержанные, выверенные, рассчитанные на долгую жизнь и адресованные узкому кругу знатоков тексты Донде не мог в силу свойств характера. Жанр нужно было создавать — или, быть может, пересаживать на русскую почву. Поздно, очень поздно, когда ему уже сильно перевалило за сорок, принялся Донде всерьез за это дело: за актуальную эссеистику с привлечением современной политической экономии, социологии и социальной психологии. В его статьях стала вырисовываться своего рода политическая экономия культуры в духе французского философа-структуралиста Мишеля Фуко. Главным объектом своих наблюдений Донде выбрал салон и кружок, стереотипы человеческих отношений в этой среде и структуры, складывающиеся на базе рутинного поведения его участников. Он захотел проследить, как из салонного разговора рождаются культы, хозяйство и государство. Началась эта работа по большому счету уже в США, в Калифорнии, где писатель оказался в ноябре 1981 года.
Приняться за главное мешало, среди прочего, еще и то, что до середины 1970-х годов Донде писал стихи. Эти опыты — главная неудача его литературной жизни. Остроумные и ладные, но напрочь лишенные мандельштамовского виноградного мяса, его стихи едва поднимались над посредственностью. Свой неуспех Донде переживал болезненно и объяснял внешними причинами: тем, что ему было чуждо специфическое ролевое поведение, присущее современным поэтам. На деле этот остроумный выпад был полуправдой. Верно, что люди, не понимающие стихов (а таковых большинство), сплошь и рядом судят сегодня о таланте поэта, исходя из поведенческих стереотипов. От поэта ждут вдохновенного бреда, неистовства, пьяного разгула, оригинальничанья, юродства. От него не ждут — артикулированной, связной и членораздельной мысли; в его поведении не понимают и не принимают сдержанности. Но всё это, разумеется, только пошлое клише, в которое не укладывались ни Пушкин, ни Фет, ни Заболоцкий. Беда была в другом: Донде считал, что поэзия исчерпывается умственной игрой, имеющей целью подзадорить читателя, вызвать его на спор. Самое существо лирической поэзии — восхищение, одушевляющее грубую действительность, сообщающее высокое содержание повседневности, поднимающее человека над пустой и страшной обыденностью, — было закрыто от него в силу его психического склада. Не понимал он и того, что у поэта на самом деле есть поведенческая функция, сводящаяся к аскезе, к отказу от простых радостей жизни во имя радостей творчества. Истинный аутсайдер, поэт не добирает на жизненном поле, а вознаграждение за поэзию черпает в самой поэзии. Как и все, кому этого мало, Донде писать стихи бросил.
Оказавшись в эмиграции, Донде энергично принялся за чтение русских газет и журналов — и был потрясен их незначительностью. Свобода, долгожданная полная свобода от цензуры и идеологии, сыграла злую шутку с большинством диссидентских авторов. Он увидел, что их продукция держалась в основном на отталкивании от большевизма, — и теряла весь свой блеск в обществе, где большевизм никого не интересовал. На Западе Советский Союз был жупелом — и только. Там боялись боеголовок и «единственно-правильной идеологии», но перед русской культурой отнюдь не благоговели. Между тем вчерашние московские диссиденты фетишизировали эту культуру — и требовали к себе как ее жрецам соответствующего отношения, — то есть оказывались в положении едва ли не смехотворном. Бросалось в глаза и то, что никакой позитивной программы у них не было. Донде пришел к выводу, что преобладает в этих журналах плохая, доморощенная и самодовольная запись разговоров, которые велись в столичных салонах и кружках с середины 1950-х годов. Лишь два зарубежных издания показались ему сколько-то пристойными: тель-авивский журнал Двадцать два и парижский журнал Синтаксис. В них он и начинает печататься.
С жадностью кинулся он осваивать западную мысль, которая в России была под замком. В Сан-Франциско, а затем в Лондоне в круг его чтения попадают следующие мыслители (в основном социологи и экономисты): Макс Вебер (1864-1920), Карл Мангейм (1893-1947), Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950), Норберт Элиас (1897-1990), Торстейн Веблен (р. 1929), Чарльз Райт Миллз (1916-1962), Дэвид Рисмэн (р. 1909), Элвин Гулднер, Марсель Мосс (Mauss, 1872-1950), Карл Поланьи (Polanyi, 1886-1964), Ханна Арендт (1906-75), Фридрих фон Хайек (1899-1992). Таких авторов, как Эрих Фромм, Клод Леви-Стросс или Людвиг Витгенштейн, он прочел еще в России.
Для Донде начался интеллектуальный пир. Отказавшись раз и навсегда писать работы академического толка, со ссылками и расшаркиваниями, он не слишком заботится о том, чтобы всякий раз отграничить почерпнутое у близких ему авторов от своих собственных размышлений и наблюдений, копившихся десятилетиями. Любая мысль коллективна, рассуждает он; фундаментальных идей — считанное число, остальное — приложения; авторство вполне реально только там, где речь идет о находках прозренческих, — между тем жизнь коротка, важно понять, что вокруг нас происходит, и выговориться. На работы концептуальные — не стоит тратить времени, лучше заняться конкретным, единичным. В статьях Донде начинает обозначаться метод, именуемый на Западе плотным письмом (thick description), — плотным по насыщению мыслью, неявными цитатами и ассоциациями, по фактуре текста, в котором присутствуют достижения из самых разных отраслей знания. Важные для него авторы появляются в текстах Донде, как Альфред Хичкок в своих фильмах: на пару секунд.
В результате возникла серия очерков о социальной и культурной жизни русской интеллигенции. Умственная продукция советской интеллигенции предстаёт тут своеобразным фольклором или своего рода фондом престижно-показного потребления культуры (conspicuous consumption of culture, термин Веблена). Эта продукция у Донде — «предмет культурной бартерной экономики».
Подход и стиль были непривычны для русской эмигрантской печати, и никакой реакции на статьи Донде не последовало. Они попросту не были поняты, ибо не попадали в готовые смысловые лунки. Эмигрантская литература распадалась на партии, каждая из которых была физически неспособна вглядеться в доводы противников. Человек, не принадлежавший ни к одной из партий, оказывался в полной пустоте. С эссеистикой Донде произошло то же самое, что и с прозой.
В прозе Донде (еще не Кустарев) пробует силы начиная с 1970-х. Тут была и попытка большого романа, и короткие очерки, представлявшие собою обработку городских баек-анекдотов советской диссидентствовавшей интеллигенции, — с выявлением мотивов тех, кто эти байки рассказывает. Все эти опыты остались в рукописях, частично потерянных.
Оказавшись в Америке, Донде словно бы обрел голос — и чуть не за две недели написал роман Разногласия и борьба. Мы видели, как он был принят. Только слепой мог проглядеть значение этой вещи — но все вокруг и были слепы: ослеплены партийным пристрастием. Проза, не укладывавшаяся в партийные шаблоны, как бы не существовала; сказать о ней было нечего — и критика ее не заметила.
За Разногласиями последовала вещь под названием Вальс — о злоключениях рядовой советской женщины из низов. В точности, как некогда Достоевский, Донде взял материал из периодики и переосмыслил его. Получился этакий мелодраматический эпос, втиснутый в 80 страниц. Написан он уже совсем телеграфным стилем. По признанию самого автора, вещь возникла не без влияния американского этнографа Оскара Льюиса, создателя концепции культуры бедноты и автора документального очерка-романа Дети Санчеса.
Затем были написаны Разговоры беженцев — в духе известной вещи Бертольда Брехта, но с той разницей, что о политике и за жизнь рассуждают не два немца в Хельсинки, а два русских в нью-йоркском баре. Наконец, уже в Лондоне в середине 90-х Донде закончил большой роман под названием Похищение детей: меланхолическое повествование об этаком Вечном жиде, цепь приключений-реинкарнаций. Обе вещи до сих пор полностью не опубликованы…
После ухода в 1997 году с Би-Би-Си на раннюю пенсию (этот уход поторопили инфаркт и операция на сердце) Донде занимается преимущественно литературным трудом, а сверх того работает научным сотрудником в институте русской истории и по нескольку месяцев в году живет в Москве.