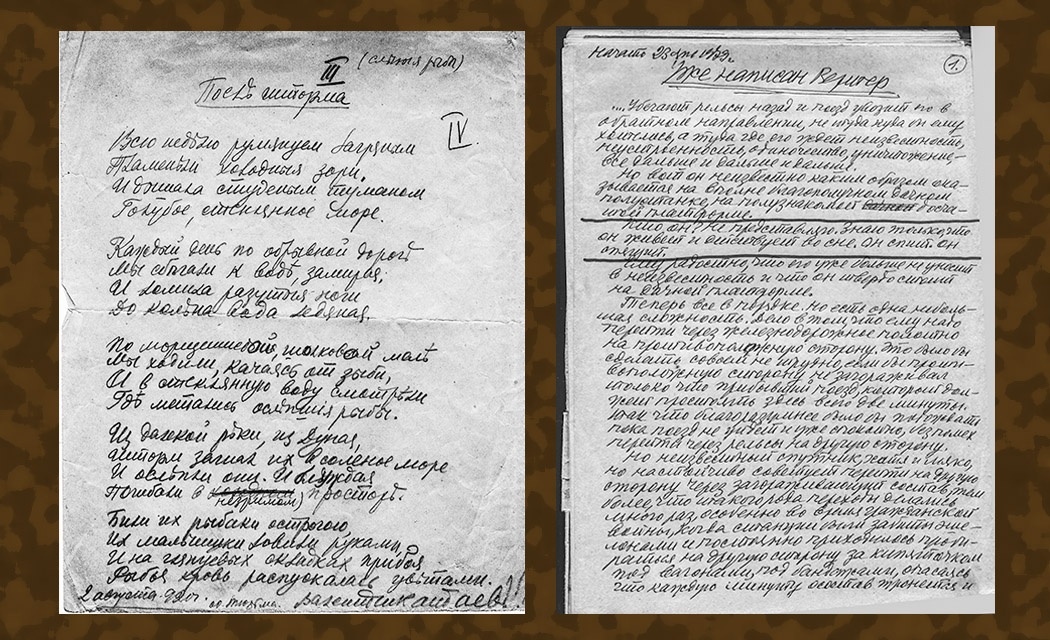Слева - Владимир Ланцберг (22.06.1948 - 29.09.2005), справа - Рудольф Баринский (19.02.1934 - 1999). Фото из архива В.Ланцберга. "Чимган-4", 1980).
Я целовал босые ноги слова
Каждое новое имя в прозе – особенно, если прозаик в зрелом возрасте, – вызывает любопытство: что это за новое слово? Какой опыт за спиной у писателя? О чем он расскажет нам? Каждое новое имя в поэзии – особенно, если поэт не молод, – вызывает недоумение: он что же, вдруг начал писать или раньше не издавался? А если второе – то почему? Ведь времена, когда не печатали, прошли.
О "вдруг" говорить не будем – с поэзией Рудольфа Баринского мы, раскованные еврейской самоуверенностью и сравнительно либеральными временами молодые завсегдатаи литературнотеатральных коловращений, познакомились более тридцати пяти лет назад. Тогда поэт как бы и не нуждался в публикациях – их заменяло авторское чтение в многочисленных компаниях, на вечерах, – как потом стали говорить, тусовках. Читающий нараспев, завышая тональность чтения все выше, будучи старше всех участников вечера – мэтр! – он неожиданно резко обрывал стихотворение безупречно выверенным на слух финалом, нередко парадоксально оспаривающим всю фабульную концепцию стиха.
Нет, он вовсе не был чужд некоего детского тщеславия "автора публикаций". Крохотная подборка стихотворений в "Звезде Востока", сборник детских стихов на двоих в местном молодежном издательстве и прочее в том же духе – всегда лежали на видном месте; дескать, вот, и меня печатают; а уж его истории о потрясающих отзывах всех мыслимых и немыслимых звезд российской словесности, истории, большей частью выдуманные, что было хорошо известно их невозмутимым от многолетней закалки слушателям, – давно стали частью иронического фольклора дружеского окружения поэта. Но километры вышаганной с ближайшими друзьями поэзии, снисходительная – мэтр! – оценка мощного впечатления, производимого этим чтением, – это была правда! Мир реальный был ему малознаком. Этот мир существовал лишь как повод уйти в себя, превращая в поэзию воспоминания послевоенной юности, жизнь своих друзей, неразрешимые моральные дилеммы советского времени. "Жить без пользы надоело, а для пользы не дадут!" – сформулировав это однажды для себя, он расплатился за нерешительность по самому высшему счету.
Это раздражало! Мы все, жившие рядом с ним много лет, чего только не делали, чтобы окунуть его в тугой водоворот коллективных эмоций, бытовых сотрясений и околотворческой суеты... он органически не мог быть частью коллектива! Любитель театральных компаний, родственных и товарищеских застолий, он даже там и весьма быстро – оказывался в самоизоляции, откуда выход был лишь на диалог с кем-нибудь одним через стихи, читавшиеся тут же, в углу, где поэт гасил шум и толчею магией поэзии, обволакивающей на какие-то мгновения и его, и слушателя.
Огромная часть его стихов посвящена конкретным людям, многие имена упомянуты в текстах стихотворений, и это естественно для поэта, чье самовыражение – диалогично, чей слух нуждается в отзыве, причем немедленно, тут же... Потребность, нет, не в оценке, не в реакции, а в соучастнике некоего таинственного ритмического действа приводила к ночным телефонным звонкам, когда слушатель (один!) – на том конце провода превращался в зрительный зал, поначалу – со сна – плохо соображая, что происходит, но сон очень быстро уходил, и власть напряженного, диктующего свою волю баритона отпускала лишь тогда, когда он – поэт – снисходительно отпускал вас в быт, сон, ночные и дневные реалии, во все то, что есть не поэзия, следовательно, – не жизнь, не дух, не существование!
А мы еще ворчали: "Рудик, ну дай поспать!”
Путешествия по пространствам превращались в парение духа. Ленинград, куда он несколько раз приезжал погостить, становился Петербургом ушедших столетий, как будто поэт прожил всю свою жизнь там, и в те самые времена! Это был странный театр, где актер, режиссер и зритель сливались в одно, и лишь понимание обреченности попытки уйти от своего времени выводило поэтический образ из стилистической мистификации.
Уникальный в своем космополитизме Ташкент, с его почти семейной свободой общения и отсутствием кондиционеров (что приводило к вышагиванию бесед по вечерним улицам, где даже самые неосвещенные места не могли быть опасны), этот Ташкент стал органической средой существования исповеди, азиатскосветской альтернативой советско-державному холоду. Ташкент был для Баринского абсолютно своим, как будто природным убежищем, что так воодушевляло поэта в шестидесятых, но стало для него непреодолимым барьером в девяностых.
С Израилем получилось иначе. Рудольф Баринский был ошеломлен своей неготовностью к пониманию страны. Там – ему все было понятно, это было – его, от детства до вымученной зрелости со всеми драмами перехода. Здесь – все другое. Ему показалось, что слишком много придется изменить в себе, чтобы остаться самим собой. К этому он не был готов. Он умер в Ташкенте, внезапно, не оставив нам времени, чтобы понять, кто же был все эти годы рядом с нами – и под запыленными кронами аллей, и в телефонной трубке ночных рифмованных исповедей, и потом, недолго, в гостях – под бездонной чернотой шомронского неба.
Это – особенно если речь идет о человеке исключительном, всегда бывает внезапно. Увы... Внезапность потери еще никого и ничему не научила. Но мы, слава Богу, живы не только задним умом, но и той высотой духа, которая нам – в завещание – остается от поэта.
Игорь Марков
Рудольф Баренский
ГАЛЕВИ
Я не люблю кастильской розы куст,
Хотя весной его цветенье дивно.
Но розовая алчность этих уст
Под старость лет душе моей противна.
Не возбудит волнения в крови
Его цветенье под весенним небом.
Я не был верноподданным любви,
Рабом желаний собственных я не был.
Себе ни разу в жизни не солгал,
Я целовал босые ноги слова.
Я жил. Я мыслил. Я существовал
Под неусыпным оком Иеговы.
Мне было больно – я хранил свой крик,
Мне было страшно – я не падал духом.
Я б лучше вырвал собственный язык,
Чем стон ловить свой почерневшим слухом.
И, если правда есть, то, видит Бог,
Мне низость не служила одеяньем.
Родившийся в изгнании, мой слог
Ни разу не молил о подаянье.
Мне не грозит богатство. Дом мой пуст.
Разграблен храм, как будто Бог здесь не был.
Я не люблю кастильской розы куст
Под чужеземным мне испанским небом.
* * *
Топай,топай,тополь,
По кривой дороге
То ли в Мелитополь,
То ли к Таганрогу.
Ты иди по селам
Украинским краем,
Там в земле веселой
Дед лежит мой, Хаим.
1972
* * *
С этого момента не клади поклоны.
Пуля метит в ментик – попадает в клены.
И бежать от смерти нет резона вовсе.
Пуля в сердце метит, попадает в осень.
Зачернеют галки над осенним лугом,
Будет пуле жалко метить в сердце друга.
Жизнь твою отмерят секунданты строго,
Пять шагов к барьеру – это даже много.
По осенним тропам тихо, дождик, сейся,
Пуля метит в клены – попадает в сердце.
Что-то очень быстро жизнь пошла по кругу,
Сухо грянет выстрел – и не станет друга.
* * *
Император едет в Павловск,
Охраняем и храним.
Император едет в Павловск.
Свита следует за ним.
Вот проехали заставу.
Вот столица позади.
Что там слева? Что там справа?
Что там будет впереди?
Золотого солнца парус
Тихо движется в зенит.
Император едет в Павловск.
Свита шпорами звенит.
Месяц май стоит в природе.
Облака роняют пух.
И не надо о свободе
И ни тайно, и ни вслух.
На Руси любому тяжко.
Как и нынче, так и встарь
Под кнутом в одной упряжке
И холоп, и Государь.
И совсем не в этом дело.
Суть не в том, кто правит суд.
Жить без пользы надоело,
А для пользы – не дадут.
Пораженья и победы -
Все растает, точно дым.
Император в Павловск едет.
Свита следует за ним.
1978
* * *
Я рос в квартире коммунальной,
Где чад стоял средь бела дня,
Где свет небес в окошке дальнем
Не проливался на меня.
С утра кастрюли и корыта,
Их грохот до сих пор не стих.
Здесь крыша русским словом крыта
Соседок яростных моих.
Здесь спорили и те, и эти,
И пили водку, погодя.
Качалась на волнах столетья
Здесь коммунальная ладья.
Ее железами латали.
Варили щи. Давили вошь.
Здесь предпочтенье отдавали
Сукну армейскому. Ну, что ж!
Оно надежней в носке было.
Его любил Великий Вождь.
И потому сукно носила
Россия вся и в снег, и в дождь.
Была на френч армейский мода
Всем западникам вопреки.
И лишь одни враги народа
Донашивали пиджаки.
Но, видно, боги нас хранили,
И с нашим верным Рулевым
Тридцать седьмой мы переплыли
И подошли к сороковым.
И распахнулись настежь двери.
И в тот же миг, и в тот же час
Мы стали братьями по вере
И сестрами, еще не веря,
Что это сказано про нас.
Да, видно, боги нас хранили,
Хранили коммунальный быт.
Чего мы только не носили,
Какие пиджаки не шили,
Что до сих пор в глазах рябит.
Ах, этой линии свободной
Простой покрой судьбы народной,
В котором время учтено.
Не дай нам Бог, чтоб стало модным
Опять армейское сукно!
1982
* * *
Теперь отсюда, только вот куда:
Считать свои конечные года
До самой до последней остановки?
В Кейсарии красиво, как всегда.
Стучат по камню каблуков подковки,
И солнце припекает без стыда.
В театре Ирода сегодня ни души,
Ну, точно мы с тобой в такой глуши,
Которую не отыскать на карте.
Но вот афиши говорят, что завтра
В театре Ирода, в том каменном театре
Балет английский, аглицкий балет.
В лицо нам дует ветер кейсарийский.
Он рвет афиши с языком английским,
В котором нам с тобою места нет.
1996
* * *
Мы едем в Иерусалим,
Туда, где синее над ним
Не выцветает небо.
По обе стороны шоссе
Леса сосновые в росе,
Поля и запах хлеба.
Дорога вьется меж холмов,
Где черепичный верх домов,
Почти как у Ван-Гога.
Там ослик тащит на себе
По той извилистой тропе
Какой-то скарб убогий.
На перекрестке двух дорог
Ветхозаветный ветерок
И пряный привкус мяты,
И тоненькая, как лоза,
Скосив библейские глаза,
Девчонка с автоматом.
1996
* * *
Вот так и жить. Читать Тору в субботу,
Под кожею, в тисненом переплете,
И свечи золотые зажигать.
А в остальные дни, как и ведется:
По-русски материться с инородцем,
И по привычке страшно власть ругать.
1996
* * *
В Иерусалиме, может,
или возле Цфата,
где, даст Бог, я буду тоже
все равно когда-то,
где в субботу стеарином
оплывают свечи,
где живет мой друг старинный,
как и я, не вечен,
даже в это время года,
я себе толкую,
там – приличная погода,
нам бы здесь такую.
Нам бы здесь тепла немного,
радостей житейских,
чтобы высохла дорога
от дождей апрельских.
1993
Арба
Скрипела медленно арба
ничуть других не хуже,
и шла за ней моя судьба,
разбрызгивая лужи.
А в этих лужах, прямо в них,
цвела такая просинь,
что отражала нас троих:
меня, арбу и осень.
Арба тащилась так, ужас,
скрипела вдоль дувала.
Плескалась в небе синева,
её на всех хватало.
Играл за стенкой музыкант
на флейте одиноко.
Старинный тракт на Самарканд
шёл мимо наших окон.
А там над ним, прикрывши плешь,
и правя на отроги,
парил с арбою арбакеш
и ослик тонконогий.
Была такая синева,
её на всех хватало.
Слетала жёлтая листва
на и крышу дувалы.
Летели голубые сны
в краях российских сосен.
И долго письма шли с войны
в ту золотую осень.
1985 г.
Матерь Божья не поможет...
Матерь Божья не поможет.
Все останется, как прежде.
Часом раньше, часом позже
Не сбываются надежды.
Корабли уходят в гавань,
Паруса свернув поспешно.
Очень жаль, что в чем-то главном
Не сбываются надежды.
Кто из нас себя не тратил,
Не блевал в канаве сточной?
Очень жаль, что Божья Матерь
Так чиста и непорочна.
Нас не ждут с молитвой в храме,
За целковый понемногу
Мы к кресту гвоздями сами
Приколачиваем Бога...
Песня рыцаря Ланцелота
Как странно в этом мире жить,
Желать свободу – видеть плеть,
Когда уже нельзя любить,
Когда ещё не умереть.
Как странно в этом мире жить,
Хотеть добра, а жить во зле,
Неведомо куда спешить,
Качаясь день и ночь в седле.
В седле качаясь день и ночь,
Всё время торопить коня,
Не в силах никому помочь
Ни ночью, ни при свете дня.
И день, и ночь в седле всегда,
Незамечаемый никем,
Спешить неведомо куда,
Спешить неведомо зачем.
Качаясь день и ночь в седле,
Неделю, месяцы, года,
Не помышляя о тепле,
Спешить неведомо куда.
Желать свободу – видеть плеть,
Хотеть добра, а жить во зле.
И знать, что рядом жизнь и смерть
С тобой качаются в седле.
И знать, что жизнь и смерть всегда
В седле с тобою лишь затем,
Чтобы неведомо куда
Спешить неведомо зачем.