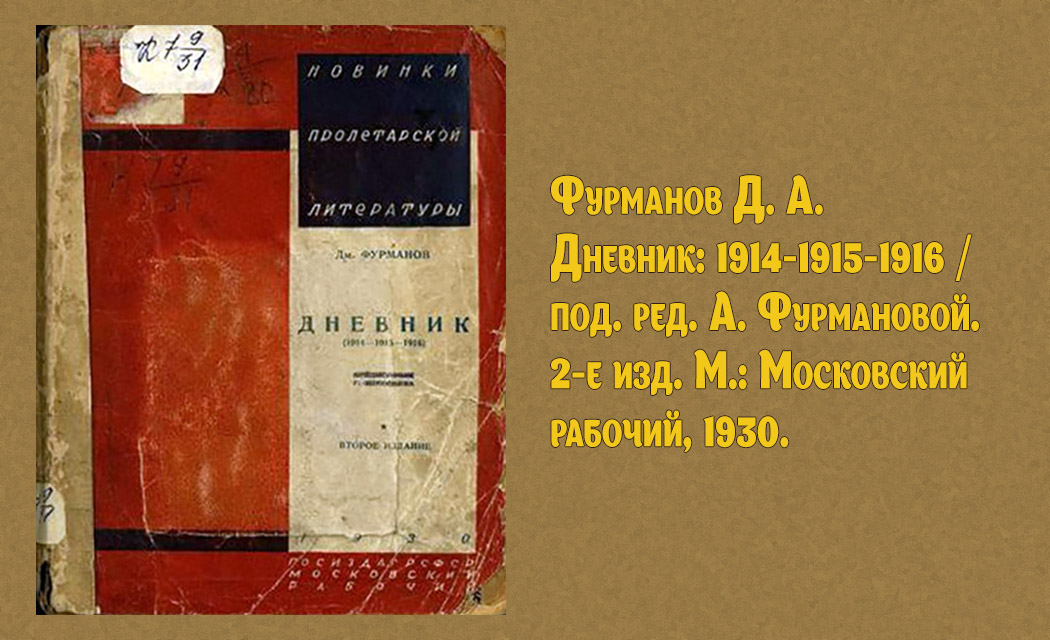(Тарту), № 1-7, 1990-1992. Обзор содержания
Последние три десятилетия утвердили безусловно высокую репутацию русскоязычной печатной продукции Тартуского университета. Первый опыт библиографирования «тартуской школы» – «Труды по русской литературе и семиотике Тартуского университета. 1958-1990. Указатели содержания» (Тарту, 1991) – концентрированно представивший читателю «как эволюцию проблем, привлекавших внимание учёных, так и расширение круга исследователей» (Ю.М. Лотман), не остался незамеченным. Оценив вышедшее издание как выразительное свидетельство академического нонконформизма 1960– 1980-х гг., рецензент «Нового мира» справедливо задавался вопросом, «станет ли указатель библиографической серией или, напротив, окажется лишь памятником ушедшей эпохе» (Новый мир, 1992. № 6, с. 255). Наблюдения за тартускими изданиями последних лет убеждают нас в том, что несмотря на общий для всех частей бывшей империи полиграфический кризис, научная работа университетского центра Эстонии не только не потеряла былой интенсивности, но и реализуется в новых неожиданных формах. Свидетельством тому является, на наш взгляд, выпуск – с марта 1990 г. при университете, затем, с марта 1992 г. в качестве независимого издания газеты «ALMA MATER».
Впрочем, трюизм «новое – это хорошо забытое старое» может оказаться здесь вполне уместен, тем более, что об этом говорят в преамбуле к первому номеру сами издатели: «История университетского русского листка сравнительно продолжительна: он с перерывами издавался около сорока лет, то как «Русская страница», то как самостоятельная газета «ТГУ». На лучшие традиции молодости «тэгеушки» и ориентируется редакция «ALMA MATER».
Что же, редакторам новой газеты, действительно, было с кого «брать пример». Русская страница «TRÜ» памятна многим – в частности, первыми публикациями мандельштамовского «Бесшумного веретена...» и «Ремесла» Пастернака, осуществлёнными Г.Г. Суперфином, напечатанием в 1969 г. «Подсвечника» Бродского.
Прошло двадцать лет – и нынешнее поколение тартуанцев «отдает долги»: не последнее место в сегодняшней «ALMA MATER» занимают мемуарные (в самом широком смысле) материалы, посвященные годам расцвета Тарту как
центра русистики и семиотических исследований. Среди них и любопытный эпизод «Из записок старого арестанта» Бориса Ямпольского (№ 3 [5], 1991), рассказывающий о встрече автора с Габриэлем Суперфином в Москве, в самом начале шестидесятых: «Комната-пенал. За окном, в уровень с тротуаром, ноги прохожих туда-сюда и автомобильные выхлопы в форточку. Дворницкой бы здесь быть, метлы, лопаты держать, а не белоснежно застеленные постели, не обеденный стол под скатертью к ним впритык. Нарушала домовый обиход из трех одна только постель, небрежно прикрытая суконным одеялом с метровым над ней фотопортретом Цветаевой и разложенными на одеяле: «Е. Замятин», «П.Н. Милюков», еще кто-то (не помню), среди которых Гарик и усадил меня. И, откинув край одеяла, вытащил мне чемодан, переполненный машинописными текстами.
– Вот. Выбирайте».
Цитированный текст, однако, скорее исключение – над «живым биографизмом» в газете преобладают материалы аналитического характера, где воспоминания о тартуской школе лишь повод для ее осмысления в качестве «семиотического феномена». Начиная с третьего номера (1991) центральной в газете становится дискуссия об истории тартуской семиотики, открывшаяся републикацией сокращенного варианта статьи Б.М. Гаспарова «Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен», ранее увидевшей свет на страницах специального выпуска Wiener Slawistischer Almanach (Bd. 23), посвященного 60-летию А.М. Пятигорского, одного из активнейших участников тартуских Летних школ. В небольшом редакционном послесловии к статье Гаспарова газета «взяла на себя роль инициатора давно назревшего обсуждения» феномена Тартуско-Московской семиотической школы и подтвердила свои обязательства публикацией в последующих номерах откликов Ю.М. Лотмана, С.Ю. Неклюдова (№ 1 [6], 1992), И.А. Чернова и Б.Ф. Егорова (№ 2 [7], 1992). «Амплитуда самоописаний широка, – замечают редакторы. – В самом общем виде можно сформулировать три различные позиции, к которым в той или иной степени приближаются высказанные точки зрения:
– Тартуская школа – прямой и законный наследник предшествующей традиции, она осуществляет синтез всего прошлого филологического опыта XX века.
– В культурной ситуации 60-х гг. Тартуская школа возникла как антитезис существующим в филологической науке тенденциям.
– Никакой школы не было, была группа исследователей, искусственно объединенных внешними условиями».
Добавим, что, если, по нашему мнению, текстов, отражающих последнюю из приведенных точек зрения, опубликовано (во всяком случае, пока – дискуссия продолжается) не было, то появившиеся реплики сочетают две первых точки зрения: «...внутри себя встречи были очень напряжены плодотворными противоречиями и описать их как единую систему трудно.
Резко выделялись группы по школам – ленинградцы и москвичи. Тарту оказался выгодным местом встречи на «нейтральной» территории. Московская и ленинградская школы обладали более чем вековой разницей. И эта разница продолжала быть. Ленинград всегда был историкоизучающим, историкософическим, а ленинградская школа была закреплена за историей общественной мысли. Московская школа была школой высокопрофессиональной лингвистики. И если ленинградская школа была больше направлена на историю и современность, динамические аспекты, то московская – на изучение синхронии, статики и «архаических» культур. Речь идет, конечно, об исходной точке, исходной расстановке сил. В дальнейшем мы, как в кадрили, многократно менялись местами. Или, если угодно, как в поединке Гамлета, обменивались шпагами. Но исходное противоречие между московской и ленинградской школами было, создавая порой трудности в поисках общего языка шла борьба за то, чтобы единство науки не поглотило индивидуальности. И одна из особенностей семиотической школы заключается в том, что индивидуальные особенности сохранились. Статьи и книги остались индивидуальными. Никто не спутает работы Пятигорского и Успенского. И это важно. Наука как часть культуры должна сохранять индивидуальность. Эта возможность одновременно говорить общим и индивидуальным языком дает тот культурный объем, который и уловляет истину.
Я бы историю тартуской школы представил не как согласованную игру на одном инструменте, а как сложный оркестр, где разные инструменты исполняют различные партии» (Ю.М. Лотман).
«...схематически можно было бы разделить москвичей и тартуанцев (ленинградцев) еще более антиномично: последние, в отличие от лингвистов-москвичей, были литературоведами, поэтому основным объектом их анализа были художественно-литературные, произведения, которые они стремились рассмотреть синтетически, в диалектических связях плана содержания и плана выражения, в то время как москвичи-лингвисты интересовались больше планом выражения, тартуанцы часто поднимались и во внеположенные сферы вплоть до культурологических уровней. Это схема, которая, естественно, не уничтожает живого разнообразия и сложностей представителей школы и их объектов: среди москвичей были и философы, и искусствоведы, и фольклористы, которые тоже стремились к абстрактным вершинам культурологии, а у тартуанцев были не только литературоведческие и культурологические интересы. Но в целом все-таки схема отображает реальную расстановку сил» (Б.Ф. Егоров).
«Уже само существование подобного научного центра, неподконтрольного московским академическим и университетским властям, вызывало у них естественное раздражение. Дряхлеющий официоз, для которого единственным литературоведческим методом был марксизм в его вульгарно-социологической ипостаси, чувствовал себя уязвлённым распространением структурализма во все более и более широкие области исследования словесности. Другие критики, брезговавшие солидаризироваться с ортодоксами и фундаменталистами диамата, упрекали новое направление в «сальеризме», в разъятии живого тела поэзии; впрочем, это обвинение (которое вообще можно с равным основанием переадресовать любой аналитической науке, коль скоро она желает остаться наукой) звучало и из лагеря идеологических охранителей, борцов с формальной школой, не видевших разницы между ней и современными структурно-семиотическими исследованиями. Здесь обнаруживалась общность платформы обеих групп критиков» (С.Ю. Неклюдов).
Кстати, остроту взаимоотношений между тартуской филологией и официозным литературоведением, в частности, в вопросе освещения наследия крупнейших отечественных учёных – из числа предшественников и прямых учителей будущих основателей тартуской школы – отражает материал «Пушкинский Дом о Томашевском», посвящённый критическому разбору выпущенной Институтом русской литературы АН СССР брошюры к 100-летию Б.В. Томашевского (№ 1 [6], 1992). Позволим себе привести здесь часть этого отклика, содержащую несколько ценных и авторитетных мемуарных свидетельств:
«Основное чувство, которое вызывает сборник – недоумение. Почему к 100-летию крупнейшего учёного в Пушкинском Доме не нашлось ничего кроме одной популярной статьи? Правда, может быть, готовится какой-нибудь фундаментальный сборник, но пока что читателю ничего об этом не говорится. Есть и другие, не менее недоуменные вопросы. Почему в хронологическом списке, где сообщаются даже такие подробности, как то, что Б.В. был награждён в 1946 году медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне», события его жизни обрываются этим же 1946 годом, после чего сразу наступает смерть 24 сентября 1957 года? Что делал Б.В. Томашевский эти двенадцать лет? Неужели ничего? Разве он не был объектом преследований и разоблачений, не выслушивал обвинений в «многообразных ошибках», в частности, из уст тогдашнего директора Пушкинского Дома В.Г. Базанова, речью которого составители сборника сочли приличным начать выдержки из заседания? Базанов (см. с. 30 сборника) над свежей могилой учёного не удержался,
О научной судьбе, сходной в главных, определяющих признаках с судьбой Томашевского, напоминает специальное приложение к газете, посвящённые памяти З.Г. Минц (прил. к № 3 [5], 1991). Мемориальные тексты Б.Ф. Егорова, М.Л. Гаспарова, Н.В. Котрелева, О.А. Седаковой раскрывают человеческий дар З.Г. Минц, работы А.В. Лаврова («О редакторе, вдохновителе тартуских «Блоковских сборников») и В.Н. Топорова («Верность пути. К научному наследию З.Г. Минц») осмысляют сделанное ей.
«Могла ли З.Г. сделать больше? Конечно. Но не забудем, что преданность науке и влюблённость в то, чем она занималась, не освобождали ее от других дел – от тяжелейшей работы по изданию многочисленных сборников, в которых она сама нередко не участвовала, – от инициативы в создании, формировании тем и круга авторов, отношений, далеко не всегда простых, с издательством и т.п., вплоть до работы считчика и корректора. Много радостей доставила З.Г. наука, но и немало жертв было науке принесено. Оценивать научное наследие З.Г. количественно – слишком малая и слабая мера для сделанного ею. А чтобы оценить его уровень и важность достигнутых результатов, сделано более чем достаточно. И при этом в жертву науке приносились силы, здоровье, время, но ни семья, ни студенты, ни коллеги, ни друзья, ни бесконечное желание делать добро и само это доброе делание» (В.Н. Топоров).
Хочется отметить, что влияние З.Г. Минц, ее исследовательских интересов чувствуется в подборе материалов непременного во всяком уважающем себя отечественном издании публикационного и историко-литературного отдела. Это и «сказочки» Ф. Сологуба из его «Книги Сказок» (М., 1905) (№ 1 [3], 1990), и раритетная повесть А. Ремизова «Что есть табак» с воспроизведением иллюстраций К. Сомова к изданию 1908 г. (№ 2 [4], 1990), и статья М.В. Безродного «Белый на службе у черной сотни», рассматривающая историю статьи Андрея Белого «Штемпелёванная культура» (№ 2 [7], 1992).
Конечно, «ALMA MATER» не могла не отразить и современное состояние тартуской науки, проблемы, актуальные сегодня для адептов тартуской школы и для ее основателя. Тексты Ю.М. Лотмана регулярно (за вычетом №5) публикуются в газете: в № 1 это размышления о смысле и цели университетского образования, в № 2 – интервью, посвящённые значению личности А.Д. Сахарова, в № 3 – выступление на открытии студенческой конференции русских филологов, в № 4 – теоретический текст «О природе искусства» и некролог В.И. Беззубову в последнем, седьмом номере.
Однако неверным было бы представление об «ALMA MATER» как о некоем дубликате «Учёных записок». Это, конечно, академическая, но все-таки газета, и сегодняшняя политика находит место на ее страницах. Особенно интересно, когда это происходит опосредованно, как, например, в № 2 (1990) – через текст стихотворения МЛ. Гаспарова, предваряющего обширное интервью с ним в том же номере:
КАЛИГУЛА
Пришёл весёлый месяц май,
Над нами правит Цезарь Гай,
А мы, любуясь Гаем,
Тиберия ругаем.
На площадях доносы жгут,
А тюрьмы пусты, тюрьмы ждут,
А воздух в Риме свежий,
А люди в Риме те же.
Недавней кровью красен рот
От императорских щедрот:
Попировали – хватит!
Покойники заплатят.
Кто первый умер – грех на том,
А мы – последние умрём,
И в Риме не боятся
Последними смеяться.
Красавчик Гай, спеши, спеши:
Четыре года – для души,
А там – другому править,
А нам – другого славить.
1962
В послесловии автор счёл нужным добавить: «Я не пишу стихов: может быть десяток за всю взрослую жизнь. Это – отход от филологического производства: тогда я переводил Светония. Я забыл о нем, и вспомнил только когда мой товарищ С.С. Аверинцев, народный депутат, сказал мне, что оно кажется ему сейчас еще жизненнее, чем тогда».
Умение подойти к самым, казалось бы, острым и горячим проблемам современности с академической основательностью – черта, свойственная авторам «ALMA MATER» в высшей степени. Таков, к примеру, обстоятельный анализ солженицынской брошюры «Как нам обустроить Россию?», проделанный
Г. Амелиным, А. Блюмбаумом и. Пилыциковым в статье «Краеугольный кирпич нашего будущего» (№ 2 [4], 1990). Выводы авторов вполне определенны и категоричны («Текст этот задан состоянием русской культуры и, претендуя на глобальное изменение этого состояния, фактически лишь упрочивает и поддерживает его. Выдавая себя за нечто головокружительно новое, он на деле является попросту архаичным»), что, наряду с детальностью анализа, обеспечило резонанс этой работе (см. ее републикацию в журнале «Страна и Мир», 1991, № 6).
Уже упомянутая нами беседа М.Л. Гаспарова с Е. Горным, И. Пилыциковым и Д. Кузовкиным демонстрирует пристальный интерес интервьюеров к современному литературному процессу в России – черту, в общем не свойственную тартуским штудиям прошлых лет.
– Наверное, некоторые имена в современной поэзии, несмотря на отсутствие целостной картины, все-таки привлекли ваше внимание?
– Общую панораму я представляю лишь по машинописной антологии, составленной Ольгой Седаковой, чьи стихи я хорошо знаю, Кривулин, Стратановский, Рубинштейн, Жданов, Пригов. Пригов в больших количествах неудобо-переносим, но в небольших он совершенно необходим русской поэзии, хотя то немногое, что я знаю из Рубинштейна, мне лично привлекательнее.
– Достаточно распространено мнение, что Бродский, образно говоря, является Пушкиным нашего времени»...
– Я впервые это мнение услышал в начале 60-х годов, когда он только начинал. Тогда Н. Горбаневская сказала Аверинцеву: «Наше время будут называть эпохой Бродского». Я подумал: вряд ли. Стихи Бродского – это стихи законного наследника, а поэзию делают экспроприаторы. О позднейшем Бродском не решаюсь судить. Заграничную его продукцию я знаю плохо. Могу только сказать, что по мере того, как я старею и приобретаю, соответственно, скверные черты характера и вкуса, два поэта постепенно и плавно делаются мне ближе, чем раньше: Ходасевич и Бродский».
Любопытно видеть, как филологический подход и встраивание текстов (речевых или поведенческих) в определенный культурологический контекст нейтрализует и объективирует восприятие иного субъективного мнения. Яркий пример тому – публикация выступления Эдуарда Лимонова по Би-Би-Си в день пятидесятилетия Иосифа Бродского, снабжённая комментарием Арт Ру: «С точки зрения лимоновского «авангарда», продолжающего обычай «сбрасывания с корабля современности» классиков, ниспровержение «классика» Бродского оказывается единственно возможным. Более того, Бродский, говорящий о том, что акмеизм – единственное течение, представляющее в XX веке Поэзию, и Лимонов, с восхищением цитирующий Маяковского – все это похоже на продолжение давней полемики акмеизма и футуризма» (№ 1 [3], 1990).
Филологический анализ в сочетании с воспоминаниями отмечает и тонкое эссе Ольги Седаковой «Несказанная речь на вечере Венедикта Ерофеева», сопровождённое публикацией неизвестной фотографии писателя 1970-х гг. с особым, к этой фотографии относящимся „Post scriptum“ от» Седаковой (№ 1 [3], 1990), и статью Ю. Кублановского о прозе Л.Я. Гинзбург (№ 2 [4], 1990), и, проникая в литературный отдел, отзывается своеобразными метатекстуальными построениями, как, например, в стихотворении Александры Петровой – (№2 [7], 1992):
Стихотворение «Л. Добычин»
А.Ф. Белоусову
Сегодня дождь. Ломаются ветви дерев,
а этот писатель (чьи письма) умер, хоть облысев,
но, в общем, не старым. Без восклицательных зна
коварным и верным друзьям он писал допоздна,
что дескать меня не ищите отправлюсь в другие места
скромней и свободнее на обороте листа
Понятно, что исчерпать (хоть бы в перечне) содержание семи вышедших номеров шестиполосной тартуской газеты невозможно в ограниченном объемом обзоре. Это, ни в коей мере, и не являлось нашей целью. Мы надеемся, что информация об этом издании будет воспринята не только в сугубо библиографическом аспекте и окажется не вовсе бесполезной для неуклонно снижающей свой тираж (от 15 до 2 тысяч экземпляров) в своём роде уникальной филологической газеты.
LES EDITIONS ОПЫТЫ 1993