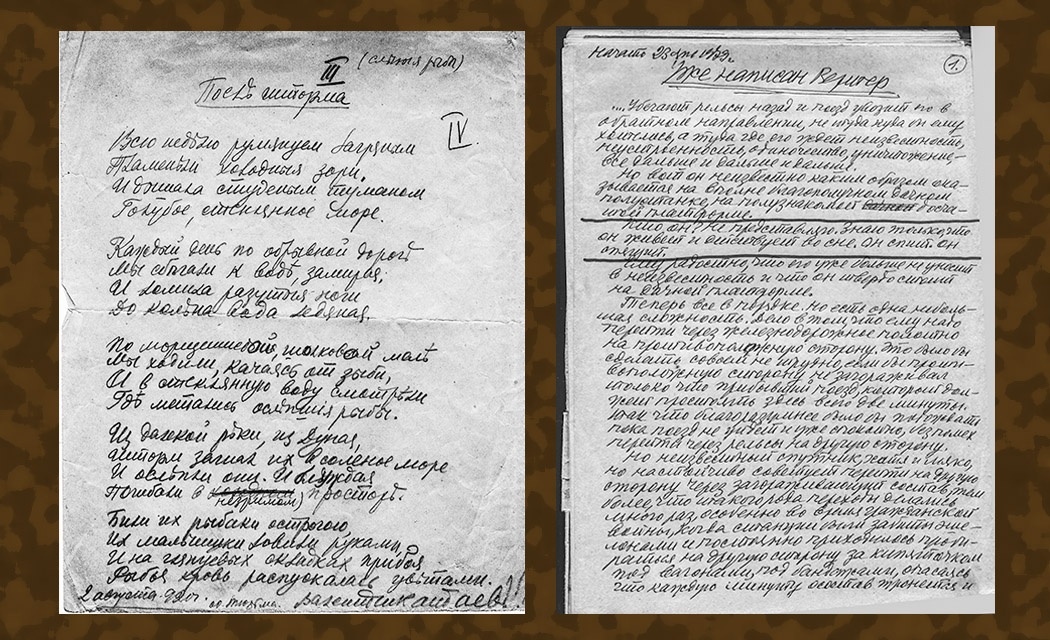Уже нет никого из главных кователей победы – павших, нет инвалидов, вернувшихся с обрубками вместо ног и рук. Они ушли первыми. Послушаем, однако, живое шершавое слово поэта-фронтовика:
Борис Слуцкий
Памяти поэта
Михаила Кульчицкого
Давайте после драки
Помашем кулаками,
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.
Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов -
Фанерный монумент -
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.
За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
За здравие живых!
ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ
И. Эренбургу
Лошади умеют плавать.
Но - нехорошо. Недалеко.
"Глория" по-русски значит "Слава", -
Это вам запомнится легко.
Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.
Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.
Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.
Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?
Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось - плавать просто,
Океан казался им рекой.
Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.
Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все. А все-таки мне жаль их -
Рыжих, не увидевших земли.
В ШЕСТЬ ЧАСОВ УТРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Убили самых смелых, самых лучших,
А тихие и слабые - спаслись.
По проволоке, ржавой и колючей,
Сползает плющ, карабкается ввысь.
Кукушка от зари и до зари
Кукует годы командиру взвода
И в первый раз за все четыре года
Не лжет ему, а правду говорит.
Победу я отпраздновал вчера.
И вот сегодня, в шесть часов утра
После победы и всего почета -
Пылает солнце, не жалея сил.
Над сорока мильонами могил
Восходит солнце,
не знающее счета.
* * *
Человечество делится на две команды.
На команду "смирно"
И команду "вольно".
Никакие судьи и военкоматы,
Никакие четырёхлетние войны
Не перегонят меня, не перебросят
Из команды вольных
В команду смирных.
Уже пробивается третья проседь
И молодость подорвалась на минах,
А я, как прежде, отставил ногу
И вольно, словно в юные годы,
Требую у жизни совсем немного -
Только свободы.
ГОСПИТАЛЬ
Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
слогов
строки.
Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
Лежим
под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы лядащего сюда!
Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном истоптанном полу
Лежит диавол,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленом углу
Лежит подбитый унтер на полу.
Напротив,
на приземистом топча́не,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом — как мертвые кричат.)
Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
Не помирал меж нас!
Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
гладит гимнастерку
И плачет,
плачет,
плачет
горько,
Что эта просьба не соблюдена.
А в двух шагах, в нетопленом углу,
Лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
Уносит прочь, в какой-то дальний зал,
Чтоб он
своею смертью черной
Комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют
воины:
— Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!

Алла Лескова
Четвертый год подряд я публикую один и тот же текст в эти дни. Совершенно без надежды.
Ситуация с противостоянием удручающая, с конца апреля.
Пена на губах ангелов становится кровавой и уже капает с клыков. Со всех воинственных окопов.
Что же вы все творите?
В СЛОВЕ ВОЙНА СЛЫШИТСЯ ВОЙ МАТЕРЕЙ
Про войну я думаю меньше всего в майские дни, особенно в последнее время, когда память о Победе затмила новая, уже и не новая вовсе, война.
С жертвами в виде дружб между близкими и даже родными.
В умах наших война, гражданская. И уже не столь важно, кто развязал ее. Она, как любая война, ужасна и гибельна.
Помнится, у нас на работе прорвало какую-то трубу отопления, и вся комната окуталась обжигающим паром. Мы выскочили из нее, но потом в течение двух часов, пока флегматично ехали аварийные службы, пытались приоткрыть дверь и войти в эту комнату, но опять отскакивали, пар все еще клубился, горячий.
Вот так и в соцсети осторожно заглядываешь уже с конца апреля до конца мая.
А там все война, а там все горячий пар клубится. И опять закрываешь дверь, пережидаешь.
И уже все забыли про саму Победу, а только ругаются друг с другом, надо праздновать или не надо.
В психиатрии это называется «сдвиг мотива на цель».
Это когда, например, ты начал выпивать из-за неразделенной любви, а потом уже пьешь просто так, давно забыв про любовь. Про мотив забыв.
Тема войны и Победы как самоцель, как кайф. И великая Победа в этом кайфе — только повод.
Надо вспоминать или не надо.
Публично или мысленно.
Идти с портретами погибших родственников или это позор, потому что "победители живут хуже побежденных".
Думаю, что у спорящих очень плохо с логикой, самой обычной, самой формальной.
Плохо с пониманием того, что одно совсем не отменяет другое. А это параллельные провода, просто надо их распутать, если, конечно, запутанные вам не слаще. Иногда кажется, что слаще. Все чаще кажется, что слаще.
Можно и нужно с благодарностью вспоминать о своих дедах и прадедах, воевавших ради наших сегодняшних позорных споров, и при этом не забывать, сколько людей погибло в лагерях и сколько страшных нечеловеческих историй было на войне.
Впрочем, наоборот, очень даже человеческих. Как и в мирное время.
Один герой, другой исполнитель, третий подлец, четвертый кровавый тиран. И все это называется люди.
Разве одно отменяет другое? Нет.
Разве надо преуменьшать хорошее, доброе, героическое только потому, что правильно осудить и плохое? Нет.
Говорю же, плохо с логикой.
Поэтому о войне я думаю во внеурочные часы, довольно часто.
Я думаю о ней, когда гудит в небе самолет, и я понимаю, что это просто самолет, мирный, а не бомбы сейчас упадут на мой дом и город. И я понимаю, что это счастье, мирное небо когда…
Я думаю о ней, когда вспоминаю, как моя мама в Израиле обхватывала голову руками при звуках каждой предупреждающей о ракетных обстрелах сирене.
Она еще помнила начало войны, когда тебе тринадцать лет и танцы накануне вечером, летние, под украинским небом, а в четыре утра уже война и гул самолетов.
Я думаю о том, как Узбекистан и Таджикистан спас моих будущих родителей, обогрел, накормил и вылечил. Голодных, испуганных, все потерявших в одночасье, измученных долгой эвакуацией. Тысячи людей спас, сотни тысяч людей с той стороны Урала.
Я думаю о своем дедушке Юде, который пропал без вести в июне сорок первого, когда такая мясорубка была … Мне кажется, что я до сих пор его жду, хочу познакомиться.
Я думаю о своем Учителе Юрии Михайловиче Лотмане.
Война началась для Лотмана в 1940 году. В этом году он, студент филфака Ленинградского университета, был призван в армию. Уже шла Вторая Мировая война, но тогда Лотман на фронт не попал.
Сестра Юрия Михайловича Лидия Михайловна рассказывает: «Они (солдаты части, в которой служил Ю.М.Лотман ) вели обычную военно-учебную жизнь. Вдруг, при возвращении со стрельбища, им скомандовали: «Идти тихо, не курить, не разговаривать. За громкие разговоры и удаление от колонны – расстрел». Никого не расстреляли, но все поняли – «Началось!»
И все поняли, что НАЧАЛОСЬ…
Я думаю о том, что война это сумасшествие. Не могут нормальные люди хотеть убивать других людей, и не только хотеть, а прямо брать и убивать.
Психически нормальные не способны, не должны быть способны на такое. Однако – вот. Вся история человечества, как известно.
Я думаю о своем сыне, о многих сыновьях.
О тех, которые уже не вернулись или еще предстоит не вернуться по причине чьего-то высочайшего сумасшествия .
Даже если придется защищать дом и страну, невыносимо об этом думать. Пусть не придется!
Я думаю о слове ВОЙНА. Там слышится вой матерей.
ВОЙ - НА.
Я слышу вой матерей и жен всего мира, и для этого мне не нужны даты. Хотя 9 мая великая священная дата!
И я думаю – если бы матери всей земли вместе когда-то собраться могли.
Но, Боже мой, как же мало мы можем. Как мало.
Алексей Симонов
«Дело, что было вначале…»
Борис Абрамович Слуцкий — самый, на мой взгляд, значительный поэт советской эпохи. Да, да, настаиваю на этом, потому что Пастернаку, Мандельштаму, Ахматовой или Цветаевой эта эпоха (была навязана, в них не было родовой к ней причастности. Им было с чем ее сравнивать, в том числе и в себе. И Маяковский, когда писал о революции: «принимать или не принимать — такого вопроса для меня не было…» — лукавил. Такой вопрос был. А вот Слуцкому пришлось разбираться с эпохой по самой ее сути, и отрывать ее от себя порой приходилось с кровью, как присохшие бинты. Всю работу своего освобождения он проделал сам, никому не передоверяя, ни на кого не рассчитывая.
Из всей биографии Слуцкого в благодарной памяти современников больше всего запечатлелся факт его участия в знаменитом писательском «толковище» по осуждению Пастернака.
Почему всем забыли, а ему — не забыли? Почему никто не напоминает иным любимым народом деятелям культуры об участии в антисионистском шабаше на телевидении или десяткам авторов сольных и коллективных писем в осуждение Сахарова и Солженицына и почему вспоминают об этом именно те, кто Слуцкого любил, кому ни до, ни после он не был безразличен?
Говорят, мы живем в жестокий век. Лично я не согласен. Не знаю, как век целиком, а вторая его половина — о которой я могу судить как участник, — начинающаяся со смерти Сталина, представляется мне периодом всепрощения со все уменьшающимся расстоянием между преступлением и отсутствием наказания. Полувек короткой памяти. Полувек, где в полную меру расцвели плоды теорий, переводивших совесть из категории личной ответственности в категорию общей безответственности.
Возвращаясь к Слуцкому, тем я и объясняю феномен избирательности нашей памяти по отношению к нему, что он испытывал муки совести там, где остальные себя давно и безнадежно простили.
Когда пытаются понять этот «феномен» Слуцкого, обычно вспоминают его стихи:
Всем лозунгам я верил до конца
И молчаливо следовал за ними,
Как шли в огонь во Сына, во Отца,
Во голубя Святого Духа имя…
От этого четверостишия читателю легко отмежеваться — уж я-то им верил сугубо избирательно, — с некоторым снисхождением признав такое признание своеобразной чертой мира Бориса Слуцкого: «Чем упрямее Слуцкий намеревался (цитирую Станислава Рассадина) следовать тому, чему присягнул, во что хотел, вопреки многому, верить, тем очевиднее проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей, общая, всех нивелирующая, такая, при которой индивидуальный и недюжинный ум излишен». Но ведь в стихотворении два четверостишия! И вот — второе:
И если в прах рассыпалась скала,
И бездна разверзается, немая,
И ежели ошибочка была —
Вину и на себя я принимаю.
И если есть разгадка «феномена» Слуцкого, то она (лично для меня это безусловно) лежит не в первой, а во второй, редко цитируемой строфе. В отличие от абсолютного большинства своих современников, в том числе и от меня, Слуцкий считал участие в общем обмане и своей личной виной. И об этом помнил практически всегда.
Бесстрашие в поэтическом мышлении было свойственно многим поэтам — современникам Слуцкого. Бесстрашие в мышлении политическом — единицам. А в какой-то момент (или так мне кажется по недостатку образования) — только ему:
Я строю на песке. А тот песок
Еще недавно мне скалой казался.
Он был скалой, для всех скалой остался,
А для меня — распался и потек.
… … … … … … … … … … … …
Но верен я строительной программе…
Прижат к стене, вися на волоске,
Я строю на плывущем под ногами,
На уходящем из-под ног песке.
Эту исповедь шестидесятников, эту трагическую или, если кому-то так больше нравится, трагифарсовую суть шестидесятничества, от Дубчека до Горбачева в политике и от Евтушенко до Солженицына в литературе, написал Слуцкий еще в пятидесятых — (пред)чувствовал, (пред)сказал, напечатать только не смог.
Замок на песке, рационализм иррационального времени, сапоги всмятку, социализм с человеческим лицом — все это метафоры сути, которую ощутил и выразил Слуцкий.
Отсюда, от этого драматического провидения судьбы, напряженный, угловатый, въедливый серьез Слуцкого. Поэтому стихи Слуцкого — тяжелые стихи. Не трудные для восприятия, а именно тяжелые, весомые, где слова и строки сохраняют следы трудной обработки, огранки, формовки. И истины Слуцкого — тяжелые истины, оплаченные каждодневным трудом ума, совести и сомнений, обретаемые и опровергаемые, но всегда измеряемые одним — собственным — аршином.
Слуцкий очень часто напоминает мне врача, который наблюдает пациента с застарелой болезнью, время от времени возвращаясь и вновь и вновь пересматривая диагноз. Иногда оказывается, что диагноз точен и, возвращаясь, он только зря тратит свой талант на повторение истины, уже открывшейся ему, а иногда, ошибаясь и сомневаясь, он вновь и вновь сверяет симптомы, приближаясь к абсолютной формуле, когда это уже не диагноз, не история болезни, а справка о летальном исходе.
Чтобы не быть голословным, возьму столь популярную в творчестве Слуцкого тему Сталина, начинающуюся знаменитыми «Мы все ходили под богом…» или «А мой хозяин не любил меня» (напечатаны в 1962 году, написаны в начале 50-х), продолженную «Современными размышлениями» — стихотворением, которое начинается строками: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин» и заканчивается вполне в традициях того времени: «Социализм был выстроен, поселим в нем людей» (написано тогда же, напечатано в 1987-м). И ту же тему, — для меня — заканчивающуюся четверостишием-формулой:
Провинция, периферия, тыл,
Который так замерз, так не оттаял,
Где до сих пор еще не умер Сталин.
Нет, умер! Но доселе не остыл.
Напечатано в 1988 г.
Пусть кто-нибудь из нынешних демократов-политологов, окидывая взглядом красный и другие политико-географические пояса России, поставит сегодняшнему дню более точный диагноз! А ведь Слуцкого нет с нами с февраля 86-го, а стихи он перестал писать в 76-м.
В Слуцком с отчетливым драматизмом, впрочем, вполне объяснимым, уживались пророк и писарь. Отсюда и прозрения, и тяжкий труд дозревания, додумывания, договаривания. Если Слуцкий чего и боится, то боится быть неверно понятым и потому — часто тяжеловато и не всегда уклюже — пытается все разъяснить и договорить до конца. Его писарство — это поэтический дневник ежедневной душевной работы понимания себя, времени, профессии… И, как и всякий дневник, естественно, разный по масштабу и мысли, и стиха. Разные события возбуждают движения души и таланта. Иногда события большие, чаще небольшие, но прямой зависимости: масштаб события — масштаб стиха — нет. Есть мелкое, незначительное, проходное, писарское, а есть пропущенное через такой душевный резонатор, что только держись! Но все прозрения эпохи и все пришедшие к ним на смену заблуждения следующего времени Слуцкий в свой дневник заносил с писарской пунктуальностью. Обольщениям времени поддавался, и не раз, но с дотошностью следователя вновь и вновь проверял свои выводы и, не правя стихов задним числом, вносил в дневник исправленные мысли. Поэтому, если можно так выразиться, у Слуцкого много «пристрелочных» стихов, ложащихся вокруг черного яблочка темы, но, даже попав в признанную «десятку», он не оставлял темы, отходил подальше и снова сомневался: попал ли? в десятку ли?
Один известный современник Слуцкого сказал однажды: «Написал стихотворение о любви. Закрыл тему». Слуцкий не выговорил бы этого даже в шутку. А ведь о многом сказал так, что после него долго еще сказать будет нечего. Как это — о Родине:
Зачем, великая, тебе
Со мной, обыденным, считаться?
Не лучше ль попросту расстаться?
Что значу я в твоей судьбе?
Отдельные стихи его бывали популярны и даже общеизвестны. Талант замечен. Поэзия слышна, хотя никогда не звучала громко. В пятидесятых печатали мало, в шестидесятых — больше, в семидесятых, как говорил сам Слуцкий, «печатают много и охотно», но «не то, что я хотел бы напечатать». Приходилось, «лакируя действительность», рубить стихам руки и ноги, подгоняя их под прокрустов стандарт тогдашнего «дозволенного к печати». Никогда не забуду шок, который испытал, увидев напечатанным любимое наизусть стихотворение «Словно именно я был такая-то мать, всех всегда посылали ко мне». Из его тридцати двух строк в книжке осталось, по-моему, двенадцать. Тем не менее в напечатанных книжках хороших стихов было немало, но больше — средних. А вот когда к шестидесятилетию Слуцкого вышло первое «Избранное», у лучших его стихов, стоявших отдельно, как острова, обнаружилась прочная соединенность коралловой гряды. И было это (по крайней мере для меня) открытием не поэта, а поэтического материка. Но и тогда никто, даже близкие друзья, не знал еще, как велик этот материк.
Слуцкий замолчал в 76-м, и надежда умирала между «надолго» и «навсегда». А стихи продолжали печататься. Ежедневным, пчелиным по усердию трудом никому тогда не известный Юрий Болдырев добывал из доверенного ему Слуцким архива новые и новые стихи. Прошло восемь лет. Уже самого Слуцкого не стало, а стихи все шли, и шли, и шли. Это были стихи пятидесятых, шестидесятых, семидесятых. Они соединяли уже известные нам вершины в единую систему, некоторые становились с вершинами вровень, некоторые заполняли бреши между хорошими стихами и стихами, казавшимися никакими, проходными, обнаруживая прочность монолитной кладки, единство судьбы и мировоззрения.
* * *
Мне довелось быть членом Комиссии по литературному наследию Слуцкого. А председателем ее был Евгений Александрович Евтушенко. И вот сидим мы в «предбаннике» ЦДЛ, и Болдырев раскладывает перед нами откопанные в черновых тетрадях очередные шедевры.
— Юра, — спрашивает Евтушенко, — сколько же их там?
— Наверное, тысячи две, — отвечает Болдырев.
— А очень хороших?
— Да не меньше пятисот.
— Так не бывает!
Но так было. И это был уже 87-й год, и стихов этих было действительно много, и были еще и другие, те, что выпустили в печать инвалидами, которым предстояло восстанавливать обломанные руки и обрубленные ноги.
Интересно сравнить два поэтических дневника, которые вели эти два современника.
Вот дневник Евтушенко: Куба, Америка, станция Зима, Италия, Испания, сплав по Лене, Братск, Париж.
Слуцкий после войны словно не ездил никуда. Переезжал из одной снимаемой комнаты в другую (есть свидетельство самого Бориса Абрамовича, что московских жилищ он насчитал двадцать три), ходил в журналы, искал работу, переводил коллег, хоронил коллег. Словом, в одном дневнике полно внешних событий, а главное, внутреннее: «Я — тут. Был, видел, воспел или проклял». У Слуцкого внешних событий — одна война, и потому с нею — всю жизнь. Но всю — по-разному. Один — дневник артиста, даже когда что-то происходит с ним самим, он как-бы чуть-чуть, но непременно в образе. Слуцкий всегда остается самим собой, он даже нарочито избегает соблазна легкости, свойственного поэтам желания блеснуть, станцевать на лезвии таланта. Тяжелая работа познания самого себя через обстоятельства. Начинал, поставив себе «Памятник», а в 73-м без страха и кокетства признал себя автором одного-единственного стоящего стихотворения:
Про меня вспоминают и сразу же про лошадей
Рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось: ни строк, ни идей,
Только лошади, тонущие в океане.
* * *
Слуцкий и Самойлов — отдельная тема. К ней подступались многие, в том числе и сам Самойлов, но пока эта тема — может быть, одна из самых интересных во всей поэтической эпохе первой оттепели, — не нашла, на мой взгляд, достойного исследователя. В свете сказанного выше интересно сравнить их отношение к ненапечатанным стихам. Самойлов свои не прошедшие в печать стихи, как мне кажется, недолюбливал. Когда по прошествии времени кто-нибудь из поклонников, таких, как я, с железно оттренированной теми годами памятью на стихи, напоминал их ему, Давид Самойлович от них отмахивался, и в более поздние книги просто не включал. Я до сих пор помню два или три, так в книги и по попавшие. У Слуцкого этот непроходимый запас был как минимум равен напечатанному. Поэтому, когда появились одно за другим их первые «Избранные», в самойловском все любимые вершины были на своих местах, география сохранялась. У Слуцкого, словно сработанный неустанными кораллами, поднялся из океана новых очертаний материк. Я, любивший обоих, одаренный дружеским отношением и того и другого, в тот час как бы заново пересмотрел приоритеты и — теперь уж, видимо, навсегда — отдал предпочтение Слуцкому. Поэтому, возможного, что я хочу сказать дальше, на первый взгляд прозвучит кощунством.
Пушкинское «поэзия должна быть глуповата» — Самойлову в кайф, он сам мудр, и легок, и крылат. Слуцкий это отвергал с порога. Поэзия была работой, делом жизни — какое там «глуповата»! Шампанское и спирт, воздухоплаватель и каменотес, все никак не решаюсь выговорить: Моцарт и Сальери, только ровесники… Общая юность, общая война, общие друзья, общая память. Только в понятие «моцартианства» в пятидесятые и до конца семидесятых входила не только легкость, но и проходимость, а «сальеризм» не был оснащен инфернальностью и ядом. Но алгебра и вправду была не менее жизненно необходима, чем гармония.
Они такие пленительно разные, что особенно хороши, когда общие по теме стихи, написанные в одни годы, ставишь рядом:
Последнею усталостью устав,
Предсмертным ожиданием охвачен… —
Слуцкий,
Жаль мне тех, кто умирает дома.
Счастье тем, кто умирает в поле… —
Самойлов,
И мрамор лейтенантов — фанерный монумент
Венчанье тех талантов, разгадка тех легенд… —
Слуцкий,
Они шумели буйным лесом.
В них были вера и доверье… —
Самойлов.
А что Слуцкий любил рассуждать, кто из писателей на какое воинское звание потянет, в чем его почему-то упрекает Рассадин, так ведь хочу напомнить, что и Самойлов ранжиров не чуждался. Придумал поэтическую единицу измерения в «один мандéль» (так и произносил вопреки Коржавину) и года два развлекался, прикидывая, кто из коллег на сколько мандéлей потянет. Между прочим, о себе и Слуцком говаривал: «Мы с Бобой потянем манделя на три с половиной».
Самое, наверное, существенное их отличие, определяющее многое в их отношении друг к другу, было то, что у Слуцкого чувство юмора если и наличествовало, то было как минимум весьма своеобразным, хотя и ухитрился после смерти поэта неутомимый Болдырев напечатать его книжку в «Библиотечке „Крокодила“». Самому Слуцкому это и в голову не пришло бы. Что касается Самойлова, то и в жизни, и в стихах чувство юмора он имел безупречное, то есть в том числе не чуждое и самоиронии.
* * *
В 1957-м мы со Слуцким снимали две соседние комнаты на Чистом переулке, в квартире старого артиста Ивана Романовича Пельтцера, отца Татьяны Пельтцер. Вернее, снимала мама, я тогда уже был в экспедиции.
Любопытно проследить, как отразилось это общежительство в надписях на книгах Слуцкого, подаренных матери тогда и позже:
«Память» — 1957-й:
«Жене Ласкиной — лучшей из моих 23-х соседок и не только поэтому».
«Сегодня и вчера» — 1961-й:
«Евг. Сам. Ласкиной — председателю потребительской коммуны, в которой я состоял два месяца».
«Работа» — 1964-й:
«Е. С. Ласкиной, возглавившей единственный колхоз, в котором я состоял („Председательше“)»[11].
«Современные истории» — 1969-й:
«Евгении Ласкиной в знак признания ее заслуг перед родной словесностью. Может быть представлено вместо справки». Подпись: «Современный историк».
«Доброта дня» — 1974-й:
«Дорогой Жене — с благодарностью моей и всей нашей семьи за то, что в трудное для нас время она оказалась настоящим человеком на настоящем месте, Борис Слуцкий. Накануне 75 года».
* * *
В том же 1957-м году он и женился, первый и единственный раз в жизни, на Тане Дашковской и двадцать лет, до самой ее безвременной кончины, был трогательным, заботливым и нежным мужем. Считают, что Танина смерть подтолкнула Слуцкого к болезни и немоте. И, наверное, так и было. Таня была смазкой на железных колесах, соединявших механизм Слуцкого с механизмом его времени. И когда жены не стало, Слуцкого заклинило, колеса перестали вертеться, механизм остановился. Еще целых восемь лет сердце продолжало биться, но оно было не в силах сдвинуть его с мертвой точки. Слуцкий был жив, но не жил, то есть не писал стихов, не виделся с людьми, изредка отзывался короткими безличными записочками на письма. Получил такую и я в ответ на восторженное письмо по поводу только что вышедшего «Избранного».
После нескольких клиник жил он у брата Ефима в Туле. Брат был человек замечательный — один из крупнейших советских специалистов по стрелковому оружию, автор исследований, книг, наставлений, — глуховатый, как многие оружейники, очень похожий на своего старшего брата и нежно и преданно его любивший. Ефима Абрамовича не стало в 1997 году. А двумя годами раньше ушел из жизни Юра Болдырев, саратовский книжник и московский литератор, которому литература обязана тем, что именно он отрыл, очистил и отдал людям материк поэзии Слуцкого. Юра сам был прекрасным критиком и эссеистом, но делом жизни его стал трехтомник Слуцкого, который он выстрадал в буквальном смысле слова.
Трехтомник вышел в 1991 году. Он дал нам наконец возможность увидеть весь масштаб сделанного Слуцким. Я не решился бы сравнить трехтомник с современным архитектурным ансамблем. Слуцкий в трехтомнике не архитектор, а каменщик, мастеровой, даже когда обращается к мирозданию и миротворению. Его архитекторы — Бог и Поэзия, и им он посвящает свою ежедневную тяжкую кладку. И в этом его смирение и его гордыня — его вера в то, что именно Бог Поэзии дал ему ни на кого не похожую сноровку, манеру, свой голос, свою хрипловатую мелодию.
Так сложилось, что позвоночником нашего поколения, его кальцием — были стихи. Конечно, у каждого свои, и все-таки во многом общие. Иногда это нам мешает, подменяет мысль уже готовой ее формулой. Не без стыда, например, вспоминаю, как, шагая в многотысячной толпе демонстраций 90–91-го годов, я чуть не со слезами повторял Маяковского: «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие — даже слезы из глаз». Попробуй меня сегодня вытащить на такую прогулку…
Таких формул за жизнь накопились десятки. От чего-то они нас защитили, оградили, а в чем-то зашорили и стреножили. Мы с трудом отдаем себе отчет, что на дворе новое время, с иным масштабом поступков, и когда в душевной сумятице вываливаем на бумажный лист свой испуг перед временем и неспособность найти в нем свою тропу, я мысленно возвращаюсь к чеканной, «тяжелозвонной» поступи Слуцкого, выверяя по нему душевный ритм.
Вы только подумайте: на каждое напечатанное стихотворение у Слуцкого приходилось как минимум два ненапечатанных, причем зачастую эти подспудные были лучше, точней, бескомпромиссней по отношению к себе и времени. И Слуцкий это знал. Но в нем нет ни уныния, ни отчаяния, он торит и торит свою личную дорогу, лично отвечая за качество работы. Рядом с этим рыхлость и невнятность мысли, истерика и остервенелость, которые мы без стыда, сырыми, непропеченными выносим на лист и на площадь, — кажутся такой мышиной возней. Нам все время хочется к кому-то прислониться, в то время как он — один и сам готов отвечать за слова и дела: стихом, совестью, судьбой.
Мне когда-то пришло в голову, что великая поэзия — это запечатленное дыхание: не в смысле ритма или размера, а в смысле обескураживающей невозможности прочесть это иначе, чем написал поэт.
Читайте Слуцкого — очень помогает правильно дышать.