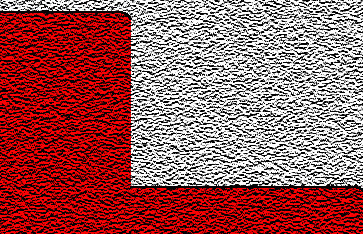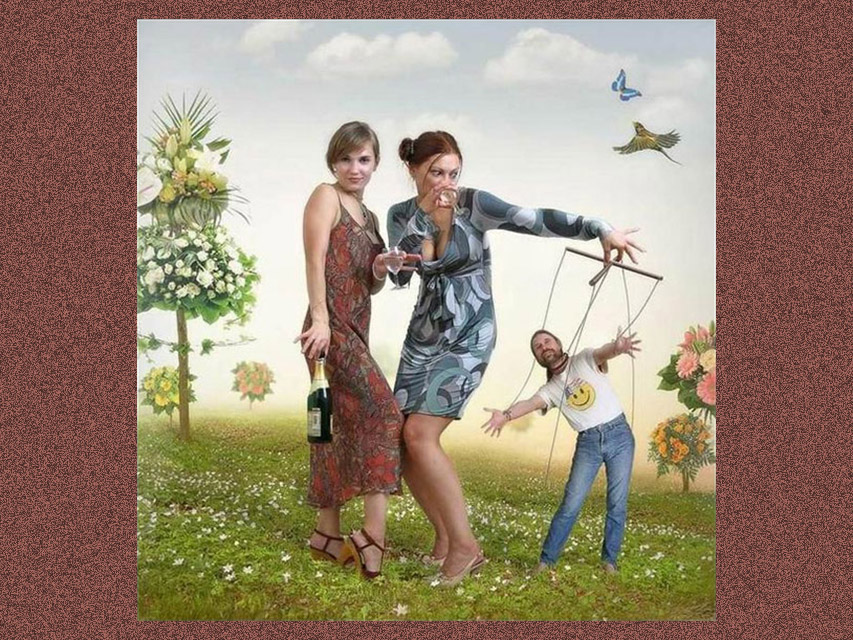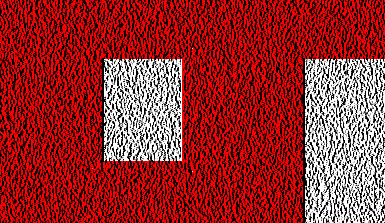Правда как ложь, или Человек-артист эпохи Москошвея
Вариант доклада, прочитанного 28 июня 1992 г. на симпозиуме «Литература и власть» в Норвичском университете (США)
Политический переворот удаётся тогда, когда у него хватает пороху и на «культурную революцию». Ее проведение одновременно является для победителей сигналом к реставрации порядка. Революции заканчиваются обновлением власти, а не обновлением жизни. Ибо фантомом революции является сам «истинный революционер», существо по духовным запросам отсталое или посредственное.
В атавистической природе революционного «культурного» сознания ночевало все, кроме творческого преображения собственного ума. Оно ориентировано на египетские пирамиды, на петербургское барокко или московский Кремль. Тот из художников-новаторов, кто ждёт от революции утверждения нового и бунтарского «духа музыки», обречён стать изменником или погибнуть.
Кого бы революция ни уничтожала – «своих» или «чужих», – сцену она расчищает только для лицедейства. «Ведь очевидно: большой успех, успех у масс не на стороне подлинных, – надо быть актёром, чтобы иметь его!»
Эти слова Ницше, произнесённые после разрыва с кумиром, Рихардом Вагнером, имеют прямое отношение к нашей теме. Речь дальше пойдёт о напророченном Александром Блоком вагнерианском типе «человека-артиста» на рандеву с большевиками.
По острому наблюдению Г. П. Федотова, «вспоминал же Ленин, когда готовился к захвату власти, что Россией управляли когда-то 40 000 помещиков – приблизительная численность его партии». То есть управление страной с самого начала мыслилось задачей более существенной, чем ее коренное обновление.
С обновлением дело у нас и всегда неважно обстоит, с узурпаторством- лучше. Как же иначе, если «ничто» непременно желает стать «всем»? А следовательно–
и преимущественно, – обладать всей полнотой власти. В политическом и социальном отношении – это значит вернуться к концепции государственной мощи без конца и без края, в культурном же плане – по-свойски распорядиться классическим наследием: хочу, чтоб вместе с балериной непременно танцевал клоун, как искренне предлагал один безымянный революционный матрос.
Будь большевики покультурнее, они, захватив власть, предпочли бы Марксу Гегеля и сразу же сформулировали то, до чего за них додумались уже в эмиграции ностальгически взвихренные – при всей своей образованности – евразийцы: «Принципиально государство есть сама культура в ее единстве и в качестве единства многообразия, то есть принципиально государство объемлет все сферы жизни». Даже «верные ленинцы» постеснялись; бы в первые годы правления такой «гегелевской» формулировки как крайности. Из чего не следует, что она для них не верна.
«Творческая страсть» к разрушению оказалась у большевиков вполне заурядной, тупой, политической страстью. И в этом отношении они грубо посмеялись над всеми нашими романтиками от Михаила Бакунина до Александра Блока, над теми же евразийцами, надеявшимися, что новый тип власти обнажит старый культурный архетип, что зазвучит на русских просторах скрытая доселе от мира небывалая мелодия. Замечательно здесь то, что на загадочную русскую музыкальность и артистизм ставили и ненавистники революции, задолго до неё ждавшие обновления России на мистических религиозных путях, например, Гоголь или Константин Леонтьев.
Коммунисты же были рады и самой банальной реставрации. Не степные кобылицы им были нужны, а полковничьи погоны. Понадобились даже «свои советские Гоголи и Щедрины». Так что несчастный Маяковский зря иронизировал над потребностью в «красных Байронах» и «самых красных Гейне». Это была обнадёживающая, доступная пониманию и льстящая самолюбию программа выскочек с явным комплексом культурной неполноценности.
Все их «культурные проекты» были предопределены и опознаны еще до того, как они их составили. Беспрестанно долдоня о «новом», они помнили разве лишь о том, откуда начали танцевать.
То, что актёры всех рангов и во всех областях деятельности нужны, коммунисты осознали крепко. Что же такое реставрация, если не слезоточиво кровавый спектакль? Без подмостков она немыслима. Грандиозные площадные действа первых послеоктябрьских лет свидетельствуют о том, что за рычаг культуры большевики ухватились ловко.
Нет нужды каждого из них изображать законченным имморалистом. Достаточно было в революции и жестоковыйных недорослей (вообще роль юношеского
чужебесия в любой революции огромна), не умеющих понимать себя иначе, чем в «героическом», трибунном обличии, жаждущих казаться и быть «другими».
Бердяев в «Духах русской революции», развивая гоголевскую тему, утверждал о революции в целом: «Она вся основана на смешении и подмене, и потому в ней многое имеет природу комедии. Русская революция есть трагикомедия. Это – финал гоголевской эпопеи».
Финал – в поисках второго тома «Мёртвых душ» – затянулся на семьдесят лет. Инфантильно схоластические дебаты по поводу его содержания, перемежающиеся анализом несуществующей «Десятой главы» «Евгения Онегина», длились ровно столько же.
Как утверждал в «Философии неравенства» тот же Бердяев: «Социализм не несёт с собой в мир никакого нового типа культуры. И когда социалисты говорят о какой-то новой духовной культуре, всегда чувствуется ложь их слов. Социалисты даже сами чувствуют неловкость при разговоре на эту тему».
Для большевиков последнее весьма характерно: железные во всем, что касается жизни, то есть ее уничтожения, они намаялись с «культурной политикой», едва ли не фетишизировали искусство, приравнённое к штыку, бомбе и знамени.
Смущающе близкую символизму ложь большевистского «культурного жизнестроительства» Блок принял за несказанную глубину и зов «родимого хаоса».
Поэт не опознал главного вектора своей судьбы: революция нуждалась в нем, а не он в революции. Без «человека-артиста», ищущего, как Блок, «не счастья, а правды», всякая революция обречена дышать затхлым воздухом незнакомого с настоящей культурой подполья. Заражает безумием цивилизованный мир не «большевистская пропаганда», а чуждая ей – и, тем не менее, сопровождающая ее – «музыка». Носящийся над помутившимся миром, «как дух над водою», «человек-артист» зажигает в сердцах неведомый пламень, «мировой пожар в крови». Никакими экономическими трениями и конспиративными радениями его не раздуешь. Но без этого «пожара» – «пожара» в крови чужой, а не собственной – у большевиков ничего бы не получилось. Они и жаждали его, и опасались. Зря. Наши романтические гении – не один Блок – все за них придумали сами. «Театр жизни будет осуществлён», – пророчествовал в 1920 году Всеволод Мейерхольд. И тут же растолковывал: «Скоро не будет зрителей, все будут актёрами, и только тогда мы получим истинное театральное искусство».
Ну и получили: зрители засели на сцене, в президиуме, а народ лицедействовал в залах и на площадях...
По мнению Льва Шестова, упования новых властей России на опасно неведомую им силу, таящуюся в художественном слове, разумному толкованию и вовсе не подлежат. В статье 1920 года «Что такое русский большевизм?» философ так описывает большевистскую психологию: «Россия спасёт Европу – в этом глубоко убеждены все «идейные» защитники большевизма. И спасёт именно потому, что в противоположность Европе она верит в магическое действие слова. Как это ни странно, но большевики, фанатически исповедующие материализм, на самом деле являются самыми наивными идеалистами. Для них реальные условия человеческой жизни не существуют. Они убеждены, что слово имеет сверхъестественную силу. По слову все сделается – нужно только безбоязненно и смело ввериться слову. И они вверились. Декреты сыплются тысячами. Никогда еще в России, ни в какой-нибудь иной стране столько не говорили, сколько у нас говорят сейчас».
Можно ли в такую эпоху отличить истинный самосжигающий пламень артистизма от холодного бутафорского света актёрства? Имеют ли тот и другой какие-то самостоятельные установки или, может быть, общую трансцендентную цель?
Во всяком случае, одну из таких целей (а для самого поэта – основную) завещал будущей культуре Александр Блок. Его опыт особенно важен, так как в первую очередь кристально чист. «Слов неправды» поэт не говорил никогда.
На что же уповал Блок? Перед смертью – уже не на красногвардейцев и, увы, не на Христа. Не о коллективном и не о личном спасении он думал: все «...расплывается в безначальный туман».
В бесконечных спорах о «Двенадцати» проглядели, во всяком случае оставили без надлежащего комментария, последнюю интуицию поэта о грядущем в мир «человеке-артисте».
Собственно говоря, уже и сам блоковский Христос из «Двенадцати» есть «человек-артист», со сценическим псевдонимом «Исус» (вместо истинного его имени «Иисус»). Он не мужчина и не женщина, он – «женственный призрак». Что уже наводит на размышление об артистизме.
Не буду здесь затрагивать тему «андрогинности» Христа. Но мысль о «метаморфозах» преследовала Блока в 1918 году, в частности в сочинении о «предшественнике Христа» Катилине и в анализе стихотворения Катулла «Аттис». Это один из источников блоковского влечения к артистизму.
Возникший из ночных метаморфоз революционной столицы призрак Христа – это, во всяком случае, не канонический образ Спасителя, но открытая великая роль, сокрушительно исполнить которую с успехом может и другой, например Катили на.
Никакого «явления Христа народу» в революцию простыми верующими замечено все-таки не было. Поэтому объявиться «от пули невредимым» существом способен лишь «артист», и все происходящее у Блока, равно как и у его экзальтированного «друга-врага» Андрея Белого, написавшего в том же 1918 году поэму «Христос воскрес», приобретает характер сценического действия, мистерии.
Давшая о себе знать в «Двенадцати» и в «Катилине» интуиция Блока о метаморфозах и артистизме была выражена позже. Произнесённая 10 февраля 1921 года речь «О назначении поэта», речь-завещание, содержит два принципиальных для нашей темы соображения.
Первое: «...стихия таит в себе семена культуры; из безначалия созидается гармония».
Второе: «Мировая жизнь состоит в непрерывном созидании новых пород. Их баюкает безначальный хаос...»
Блок стоял на том, что революционная стихия создаст из своих первоэлементов «новую породу» людей, людей культуры, а не цивилизации. Следуя Рихарду Вагнеру, он назвал чаемое существо «человеком-артистом».
По Блоку, этот homo ludens будет взращён на русских просторах «музыкальными звуками нашей жестокой природы, которые всегда стояли в ушах у Гоголя, у Достоевского, у Толстого».
Эта личная, дневниковая, запись почти в неизменном виде перенесена поэтом в финал подводящей итоги статьи «Крушение гуманизма». Ее заключительные слова стоит привести:
«Я утверждаю, наконец, что исход борьбы решён и что движение гуманной цивилизации сменилось новым движением, которое также родилось из духа музыки; теперь оно представляет из себя бурный поток, в котором несутся щепы цивилизации; однако в этом движении уже намечается новая роль личности, новая человеческая порода; цель движения – это уже не этический, не политический, не гуманный человек, а человек-артист; он, и только он будет способен жадно жить и действовать в открывшейся эпохе вихрей и бурь, в которую неудержимо устремилось человечество».
Блоковский «человек-артист» – это «антигуманист», что нужно подчеркнуть сразу же. Он – носитель «духа музыки», утраченного «гуманной цивилизацией» давно, а в статусе «цивилизации» – по Блоку – им и не обладавшей.
Это дитя безначальных туманов и вихрей само «сеет ветер», как настойчиво подчёркивается в «Катилине», а, следовательно, – «пожинает бурю».
Оправдание новой «движущей силы» в том, что она несёт в себе музыкальную стихию и едва ли не является ею сама. В этом допущении и последняя надежда Блока и его трагический пафос: «Во всем мире звучит колокол антигуманизма; мир омывается, сбрасывая старые одежды; человек становится ближе к стихии; и потому – человек становится музыкальнее».
В том, что «дух музыки» оказался смертельным для многих и многих художников советского XX века – в этом сомнений нет. Но погибали среди них- вопреки постулату Блока – чаще всего как раз те, кто стихийного музыкального начала не совсем был лишён. Из самых ярких примеров – Сергей Есенин, Артём Весёлый, Сергей Клычков... И, наконец, Осип Мандельштам – «окружённый огнём столетий», идеально воплотившийся «человек-артист» – он и сквозь культуру прозревал стихийную основу словесного ремесла, прославив в «Четвертой прозе» «только дикое мясо, только сумасшедший нарост» стихов лирического собрата.
Пробуждённый понятным гневом артиста на актёрствующих современников, пафос Мандельштама говорит о несравненно высших переживаниях, как нельзя лучше согласуясь с блестящими теоретическими положениями об артистизме Фёдора Степуна, изложенными в статье 1923 года «Природа актёрской души»: «Артистизм – ощущение избытка своей души над своим творчеством: своим лицом, своей судьбой, своей жизнью».
Опасность, если не гибельность, артистизма как раз этим и обусловлена: не замечанием собственной жизни, стремлением к инобытию, к смерти.
Призвавший «слушать музыку революции», Блок был удушен обступившей его после «Двенадцати» «глухотой паучьей». «Чего нельзя отнять у большевиков, – записывает поэт в дневнике, – это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это – факт».
Это – факт. И это рекорд артистизма, не знать, «плохо это или не особенно», уничтожать отдельных людей. Как раз в предшествующей этому пассажу записи сказано: «В артисте – отсутствие гуманной размягчённости...»
Неудивительно, что Блок так и не ощутил истинного направления возглавившей массы «железной когорты», не увидел в ней обуздателей стихии, борцов со всяческой природой, канонизаторов подмен и мнимостей. Сойдясь с большевиками в «антигуманизме», он наделил их и «артистизмом».
Массы «дух музыки» не удержали. Проблематично, обладали ли они им вообще. Природа, «стихия», в прямую зависимость от которых ставит рождение культуры Блок, воспроизводит не массу, а индивидов, и своим музыкальным инструментом они делают не толпу, а отдельную личность. Чаще всего – как раз от толпы удалённую. Как Блок.
Замечательно, что, когда Блок говорит о конкретных носителях «духа музыки», он всегда называет отшельников или изгоев: Вагнера, Гейне, Ибсена, Стриндберга, Гоголя, Достоевского...
Но еще замечательнее обозначить те чувства, что испытывал сам поэт среди революционного населения Петрограда. Блок не в состоянии был с ним не то что общаться – глядеть в его сторону. Буквально: ездил в трамвае с закрытыми глазами. «Я закрываю глаза, чтобы не видеть этих обезьян», – признался он Корнею Чуковскому.
Тут уже не без психопатологии. Но не в ней суть. Суть в ярчайшем проявлении закона, в плену которого пребывает всякий максималист-романтик. Его «любовь к дальнему» есть сублимация чувства ненависти к ближнему.
О гибельном раздвоении романтической личности поведано и исповедано много. В частности – в интересующем нас аспекте, - в известной веховской статье А.С. Изгоева «Об интеллигентной молодёжи»: «... чем более демократические идеи исповедовал мальчик, тем высокомернее и презрительнее относился он ко всем остальным и людям, и гимназистам, не поднявшимся на высоту его идей».
Блоку, романтику, в революционные годы и в голову не приходило ассоциировать такое, скажем, понятие, как «заурядность», с жизнью масс. Ибо «массы» – это «природа», это «стихия». А из «стихий» рождается «новая жизнь», «новое творчество», лирический восторг дней, когда «ворвётся в сердце ветер снежный», разыгрывающийся в революционную метель.
Пить из «Кубка метелей», собственно говоря, и означало быть художником. Причём специфически русским художником, так как, повторяю, согласно творцам, лелеявшим в сердце, подобно Блоку или Андрею Белому, «восторг мятежа», грянувшая на родимых просторах буря несёт в своих вихрях семена новой культуры. Ее музыкальный напор преобразует хаос в космос, и русская стихийная революция вносит в мир новую гармонию.
Горько им было постичь – кто постиг, – что «стихией» правит ненависть и что с самого начала она взнуздана любителями чахлого хорового пения в прокуренном застолье.
Взгляд Блока на русскую революцию, творящую из хаоса новое историческое бытие, новую культуру и, в конечном счёте, нового человека, «человека- артиста», этот взгляд не есть «русское откровение». Он содержится и в духовном наследии Вагнера, и в духовном наследии Ницше. Лишь поверхностному взгляду наша связь с европейским духовным опытом открывается через одну рационально-просветительскую доктрину с ее восприемниками – безбожием и позитивизмом.
В работе Вагнера «Искусство и революция», приобретённой и читанной Блоком как раз в 1918 году, содержится и призыв «...подняться на высоту свободного артистического человека», и убеждение в том, что явление «нового человека» не только возможно, но что на него-то история и работает: «Цель – человек прекрасный и сильный-, пусть Революция даст ему Силу, Искусство – Красоту».
Блоковские «безмерные требования к жизни», «святая злоба», его ненависть как «самый чистый источник вдохновения», катастрофическое отрицание современной цивилизации, языческое обожествление «стихии» – все это есть и у Вагнера.
Блок, с кощунственным инфантилизмом романтика воспринявший весть о гибели «Титаника» («Жив еще океан!»), не может не напомнить Вагнера, за-
явившего о смерти нескольких сот зрителей во время пожара венского оперного театра: «Люди на таком спектакле – самый пустой народ».
Для Вагнера «новый человек» – это своего рода страдающий Христос, помноженный на ликующего Аполлона. Блок, обручивший Христа с Катилиной, продвинулся в сторону «безначального хаоса», не спорим, еще сильней. Лишь открытость русского поэта гибели в своей благородной потенции затмевает все его кощунства.
«Человек-артист» Блока – это отрывающийся от поэта в будущее время его «лирический герой», его «сверх Я». В будущее – по дороге в никуда.
Творчество с таким потенциалом нацелено на стремление к смерти, обусловлено потребностью ощутить себя в ином, сверх- или надчеловеческом качестве.
«Я знаю метель. Тогда бывает весело» – вот сущность лирической философии Блока, суть его «малословесных книг». «Метель» здесь – синоним «гибели».
Вся подлость в том, что «уход в смерть», величественно завещанный и Блоком, и русской «героической интеллигенцией» отечественному «человеку-артисту», в Совдепии ни гражданскими, ни экзистенциальными мотивами не предопределялся. Злонамеренный фокус «шестипалой неправды», облюбовавшей шестую часть света, состоял в том, чтобы не дать жертве ускользнуть в смерть, выбрать ее час самой. Последняя истина, как водится у большевиков, исходила из практики: человека ждёт не смерть, а «высшая мера».
Мандельштам едва ли не единственный уловил этот замысел непревзойдённых узурпаторов бытия. И единственный ответил: «...меня только равный убьёт».
Естественно, и в те и в иные времена, всегда можно попытаться заполучить «талон на место у колонн». Тем более, что нет никакого греха в том состоянии, когда артиста, по признанию Пастернака, «тянет петь и – нравится».
Мандельштам, опознавший сталинский «бал-маскарад» как «барскую лжу» нуворишей, «талон на место у колонн» несколько раз «почтительнейше возвращал». И непочтительнейше – тоже. «С дымящей лучиной» он пошел в «полуспаленку-полутюрьму» – к «шестипалой неправде». Лицедейству предпочёл юродство: «Я и сам ведь такой же, кума».
Это и есть артистизм, третирующий одномерность навязываемых художнику ролей, насмехающийся над угрюмым лицемерием новоиспечённых моралистов.
Влечение к гибели, жертвенность, всю нашу высокую одержимость и болезнь нельзя все-таки отождествлять с проповедью свободы, тем паче – с любовью к истине. «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлёт раба...» – вот впечатляющая формула хронического недуга «человека-артиста» советской поры.
Что ж, «я к смерти готов», – ответил на романтические заветы Мандельштам,
не раз и не два делавший безнадёжные попытки «принадлежать обществу»: Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея...
Этот отчаянный выкрик поэта в московское «роскошное буддийское лето» 1931 года тут же и материализуется – в скомороший образ этого «современника»:
Смотрите как на мне топорщится пиджак!
Правда «человека-артиста» – это правда скомороха, юродивого. Вне скоморошьего слова она – подозрительна, провокационна, ведёт к обману. Ведь как издавна думает русский человек? Правду говорят или дураки, или блаженные, юроды. Этой правдивостью только и остаётся дорожить, ей доверять.
На тебя надевали тиару – юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак! – написал Мандельштам на смерть Андрея Белого.
Да, это речь «юрода», сказавшего о себе в 1935 году:
Попробуйте меня от века оторвать, Ручаюсь вам – себе свернёте шею!
Метафорически обобщая, стоит утверждать, что большевики, замахнувшись на «юрода», оторвав Мандельштама от века, и самому веку «вывихнули сустав», и себе, как видим, «свернули шею». И никакое количество выпускников Литературного института Мандельштама им не заменило.
Нельзя научиться быть «блаженным» или «нищим духом». Но подвох таится даже не в этом. А в том, что правда людей, к смерти готовых, в эпоху «привыкания к смерти», в эпоху тотальных убийств – это смущающая душу правда.
Поскольку речь сегодня идёт о «литературе и власти», то интерес представляют и те «артисты», что осознавали своё заурядное положение актёров в набиравшихся для утилитарных нужд труппах, и те из них, кто, по запредельно точному выражению Мандельштама, играл «на разрыв аорты с кошачьей головой во рту».
«Играть на разрыв аорты» – это значит отнять у палачей их последний – и единственный аргумент – казнь. Это значит быть готовым к смерти, прорываться к свободе сквозь гибель.
В этой игре не смысл жизни, но – вечное спасение.
«Как в основе всякой трагедии, так и в основе трагедии артистизма лежит миф, – писал в «Природе актёрской души» Степун, – миф о вечной жизни казнённых душ, миф об истинно целостной душе человека. Непоколебимая вера в этот миф – величайшая религиозная твердыня артистизма».
Артистизм – это и есть осознание бренности земной оболочки, стремление к гибели, преодоление и уничтожение своего личностного «я» ради «я» нового, сверхличного. Это установка, опасная прежде всего для жизни.
«Артистическое искусство поэтому никогда не живописно и не эпично, – продолжает Степун, – оно всегда лирично и трагично; существенно трагично даже там, где оно по форме совсем не трагедийно. В его основе всегда метафизическая скорбь, миф об извечно целостной, всевмещающей душе человека, жизнью не допущенной к жизни, священная легенда об убитых душах артиста».
«Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь...» – вот гениальный ответ блюстителям жизни и порядка выкристаллизовавшегося таки в советскую пору «человека-артиста».
«Современник», «человек эпохи Москвошвея» жил этим мифом о «музыке», о преодолевающей время «целостной душе». «Современность» была лишь одной из его личин:
Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почёт такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.
«Современность: все-временность», – подтвердила Марина Цветаева.
О себе сказав:
Ибо мимо родилась
Времени.
Опасность здесь в том, что сама жизнь предстаёт «человеку-артисту» одной из временных оболочек. Жизнь, которую можно преобразить искусством, лишается онтологического смысла. Грандиозная «жизнестроительная» концепция символистов, футуристов и примкнувших к ним соцреалистов вела к подмене и порче самого бытия. Искусство, подчиняющееся различным телеологическим установкам, не справляется с «современностью». Оно ищет конечных целей, которые так и нужно называть концом, смертью. Под обломками вавилонской башни должны погибать прежде других ее строители.
Впрочем, современное литературоведение, особенно западный структурализм, исходит из положения, что. ни какое авторское «жизнестроительство» (преображение жизни искусством) в самом по себе творении не запечатлевается. Анализ художественного текста строится на концепции «смерти автора» (не буквальной, как в нашем случае, а метафорической). Язык мыслится довлеющим себе феноменом – первичным по отношению к самому писателю. Последний лишь его более или менее заслуженный носитель.
Русская литература, как всегда, и тут выбивается из мирового стандарта. При чтении текстов советской поры дополнительное в них измерение вносит именно судьба самого автора. Все думаешь, как эти страницы соотносятся с «высшей мерой», «на сколько лет» (тюрьмы) они сотворены. А если в этом смысле все гладко, то не стоит подобную книгу и читать.
Я хочу сказать: правда русского искусства оборачивается в советскую эпоху ложью бытия, смертью. Поэтому закончу, не комментируя, фразой из письма Цветаевой к Рильке: «Когда я говорю правду (руки вокруг шеи) – это ложь».
Польский эстетик Роман Ингарден насчитал не менее пятнадцати значений слова «правда» в современной литературной речи. Добавим к ним шестнадцатое – и бесконечное: ПРАВДА КАК ложь.