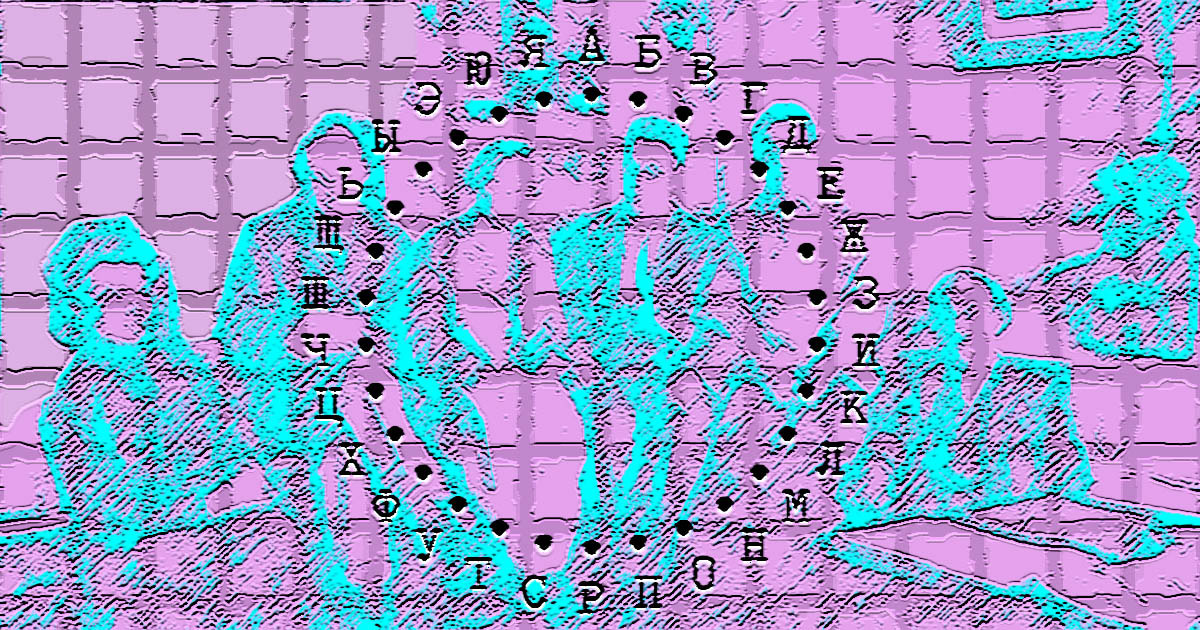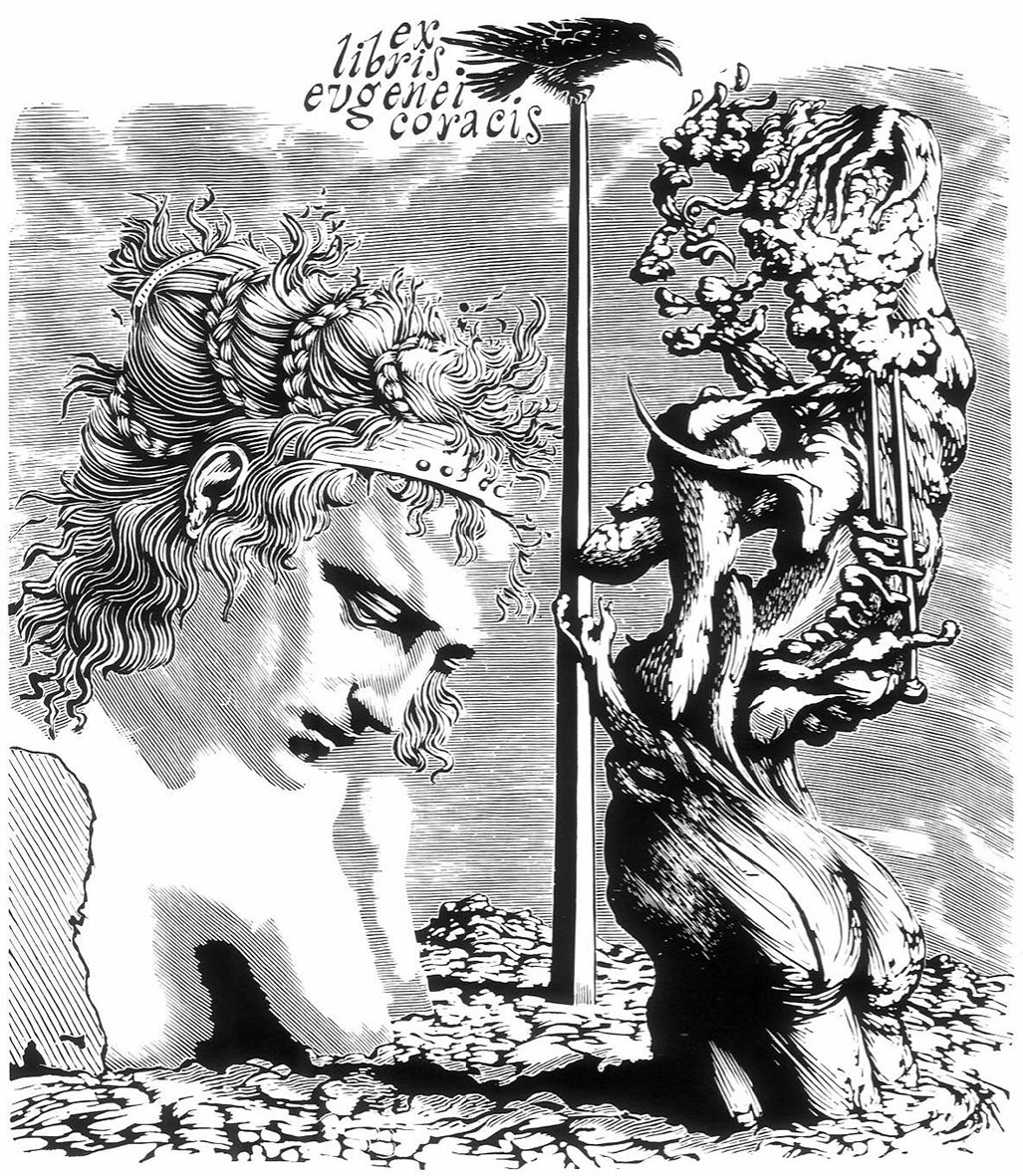От составителей
Воспоминания, дневники, мемуары едва ли не самая интересная область литературы — как для читателя, так и для писателя. Читатель, понятно, ищет занимательности и созвучности своим мыслям. Писатель, лицедей по природе, имеющий столько лиц, сколько у него персонажей, только в дневниках и может быть самим собой. «Я пишу не для печати, не для близких, не для потомства — и все же рассказываю кому-то и стараюсь, чтобы меня поняли эти неведомые читатели» (Е. Шварц. Дневники. 22 февраля 1951). Пьесы и сказки Е Шварца — мудрые, весёлые и поучительные — понимают читатели и зрители любого возраста.
Откуда же пришли к автору его герои и сюжеты? Где начало «Обыкновенного чуда» или «Тени», «Сказки о потерянном времени» и «Клада»? Как Шварц стал писателем? Ответы на многие вопросы мы найдём в дневниках писателя. Как заметил Шварц в одном из своих первых дневников (1928), «…концы и начала замечательных вещей прячутся в серединах и продолжениях других замечательных вещей».

Феноменальная память писателя сохранила, а его перо донесло до нас замечательно своеобразные картинки быта южной провинции дореволюционной России, материальный мир его детства, когда телефонный аппарат еще был экзотикой, а по улицам ходили мороженщики с синими ящиками, наполненными колотым льдом. Однако детали быта и описание глазами очевидца событий, для нас уже давно ставших параграфами в учебниках истории (такими, как революция 1905–1907 годов), не заслоняют главную задачу автора — рассказать о духовном развитии мальчика, затем подростка и, наконец, юноши, описать свои детские ощущения и мысли, боль и обиды, утешения, разочарования, любовь и фантазии. Трудно, «словно … взялся поднимать и ворочать тяжести», давались Евгению Львовичу многие, многие страницы воспоминаний: «Я писал сказки, стихи, пьесы. А как люди растут — этого я описать не умею» (Е. Шварц. Дневники. 30 июня 1951). Евгений Шварц был весёлым и лёгким человеком, и мало кто, даже из близких ему людей, знал о том, что мучило его всю жизнь, что, возможно, и заставляло его снова и снова приниматься за воспоминания как за исповедь. Откровенные и честные дневниковые записи позволяют нам в полной мере оценить мужество и мудрость их автора, сумевшего без ханжества, но сдержанно, со свойственной ему от природы чистотой, передать драму взросления ребёнка. Непростые отношения в семье, мучительная первая любовь, словно из «Очерков бурсы» взятые картинки школьной жизни, высвечивают два главных непреходящих ощущения Шварца — ребёнка: «предчувствие счастья» и «я буду писателем». Предчувствие не обмануло: прожив всю сознательную жизнь в сталинскую эпоху, Е. Шварц на личном примере подтвердил известную сказочную истину — Дракон не может победить Волшебника.
Семилетний Женя Шварц объявил, что он будет «романистом», — он ошибся только в жанре. В этой книге воспоминаний просматривается лишь начало пути от неуклюжих юношеских стихов к созданию собственного жанра «сказки для взрослых». Что требовалось, чтобы этот путь пройти? И на этот вопрос можно найти ответ в дневнике: «…кроме знаний, которые имеют названия, есть душевный опыт — драгоценный, но безымянный» (Е. Шварц. Дневники. 13 ноября 1952 г.).
Дневники
Флюгер, а на флюгере петух.
Полукруглые ступеньки. Это вход в клинику.
Длинная, деревянная, во весь вагон ступенька. Конка.
Высокая палуба парохода. Я сижу у мамы на коленях.
В предыдущих воспоминаниях мама тоже присутствует. Мы смотрим в окно и говорим о флюгере. Мы с мамой идём в клинику, о которой я слышу часто. Мы с мамой садимся на конку. А теперь едем на пароходе по Волге. У берега напротив бежит маленький буксирный пароход, который вызывает у меня братские чувства, мне кажется, что он тоже мальчик, и мы с мамой смеёмся ласково.
Я всегда знаю, когда я в Казани, когда в Екатеринодаре, когда в Рязани.
Я в Екатеринодаре. Стою у кирпичной стены. Светит солнце. Возле меня не мама, а нянька Христина. «Сколько тебе лет?» — спрашивают меня. И я отвечаю: «Два года».
Мы много переезжали, вероятно, поэтому я помню себя столь маленьким.
1950
1 июля.
Да, мы часто переезжали, когда я был маленький. Помню поезда. Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника. Поездки всегда были для меня праздником. Мне и теперь непонятно, когда меня спрашивают; не мешают ли мне поезда, которые проходят довольно близко от нашей дачи. Не мешают, а радуют; особенно когда слышу их сквозь сон.
25 июля.
Что я ещё помню из самого раннего детства? Квартиру в Екатеринодаре. То во дворе, в красном кирпичном домике, то комнату, которую мы у кого-то снимали, очевидно. Во всяком случае, хозяйские девочки показывали мне «Ниву» в переплёте, где сильное впечатление на меня произвела картинка «Голодающие индусы».
Это были, как я понимаю, разновременные наезды в родной город отца в промежутки между разными службами до Майкопа. Помню, как в Дмитрове меня разбудила мама и сказала: «Не пугайся, мы поедем кататься». Это, очевидно, 98‑й или 99‑й год, когда отца арестовали и увезли в Казань, а мы отправились за ним. Помню свидание в тюрьме. Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол. «Не шуми! — говорит мать. — Полицейский заберёт». — «А вон полицейский», — говорю я, указывая на жандарма, и все смеются. Больше ничего не помню, хотя, по рассказам, знаю, что на этом же свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье мать, отец передал ей записку; жандарм схватил мать за лицо: «Откройте рот!» Отец бросился на жандарма. И я все забыл.
26 июля.
Помню имение, где отец после освобождения из тюрьмы служил врачом. Вероятно, хозяева были греки. Одного из них звали Папа Капитонович, что поразило меня. Я полагал, что папа один. Здесь мы собирались к обеду за большим столом на террасе. Помню, идёт отец — высокий, чернобородый, в сапогах. В руках у него ружье — он вышел стрелять ястреба. Помню, здесь впервые меня пронзило чувство жалости: куда-то ехали кататься, и мама вдруг отказалась. И кто-то маленький, чёрненький, вероятно, один из братьев, владельцев имения, сказал печально: «Вот тебе и раз…» Отсюда мы уехали тоже неожиданно, как из Дмитрова. На этот раз отец поссорился с кем-то из владельцев. Почему — так и не сказал мне, хотя я спрашивал его об этом уже в тридцатых годах. Из имения мы поехали, очевидно, в ожидании нового места, в Екатеринодар, в одну из тех квартир, которые мне смутно запомнились. У родителей отца мы в те времена не жили[1]. Мама ссорилась с бабушкой. Смутно припоминаю и одну из таких ссор. Приключилась она, как видно, рано утром, потому что все были в ночном белье — и мама, и бабушка, и сестра отца, тетя Феня. Помню явление, имевшее своё точное название и в моем представлении столь же обыденное, как дождь или ветер: «У бабушки истерика». Помню и самую истерику, которую видел однажды: бабушка, окружённая сыновьями, которые ее уговаривают и утешают, вертится на месте заткнув уши, ничего не желая слушать, повторяя: «Ни, ни, ни, ни!» Я потом играл в бабушкину истерику. Деда того времени забыл. По воскресеньям отец водил меня обедать к своим родителям. Помню, как однажды ни с того ни с сего я отказался идти обедать к старикам. Почему? Отец страшно вспылил, больно дёрнул меня за руку, но я не сдался. Впоследствии я придумал объяснение: не хочу идти к дедушке и бабушке потому, что там повязывают салфетку, которая меня душит. Но это была чистая ложь. Почти столь же отрывочно, как Екатеринодар, помню Рязань и дачу возле Рюминой рощи. Сюда я ездил с мамой на ее родину, к ее родителям.
27 июля.
Записывая все, что запомнил о раннем своём детстве, я заметил, что, не выдумывая и не прибавляя ничего, я тем не менее искажаю то, что было пережито. Прежде всего: запомнил я один миг, и только его, в сущности, могу рассказать. Но в душе моей этот миг неразрывно связан с целым долгим периодом, который окрашен ясно и существует рядом с тем, что пережито сегодня. А рассказать о нем не умею. Попробую опять вернуться к детству. Случай с маленьким человечком, сказавшим: «Вот тебе и раз» и пронзившим душу мою жалостью, — я запомнил. А историю с поросёнком на пасхальном столе помню едва — едва, и то, вероятно, потому, что мать рассказывала мне ее неоднократно. Это был первый пасхальный стол, устраивавшийся у нас дома, — значит, отец уже служил твёрдо. В Ахтырях? Не спросил в своё время. Я утром, радостный, в новой рубахе и сапогах, вбежал в столовую. И вдруг родители услыхали отчаянный плач и крики: «Хвостик, хвостик». Мать поспешила ко мне и увидела, что я показываю на поросёнка, лежащего на блюде, и все повторяю, обливаясь слезами: «Хвостик». Этим я пытался (как я смутно припоминаю) объяснить ужас поразившего меня явления. Поросёнок совсем как живой, с хвостиком, лежит в страшной неподвижности, разрезанный на куски. Еще вот какую странную историю вспоминаю я. До сих пор не знаю, сон это или случилось наяву, и не знаю, к какому времени моей жизни относится это событие. Я стою с какой-то моей няней (я не запомнил ни одной из них, ввиду частых переездов они менялись), стою в церкви, как будто в алтаре, что невозможно было бы с няней. Впрочем, я ее не вижу, но сознаю, что она где-то близко. Несколько священников в светлых ризах служат поют, взмахивая кадилами, а где-то между ними лежит на тарелке нечто, похожее на полукруг масла, в который воткнули прямые недлинные волоски. Эта странная служба, которую и сейчас отчётливо представляю себе, так поразила меня, что я постоянно играл в неё, поворачивался величественно, как один из священников, взмахивал кадилом, пел. Примерно к этому же времени относится не то явь, не то сон о том, как я потерял на улице маму. Я спрашиваю у людей, сидящих возле магазина на скамеечках, где она, но люди только посмеиваются. А напротив, на другой стороне улицы, сидят гигантские дети с крылышками и пишут острыми палочками по кругу. Я впоследствии узнал этих детей на рекламе каких-то граммофонных пластинок. Так как дети в воспоминании моем находились на противоположной стороне улицы, на крыше, то возможно, что я видел укреплённую над магазином рекламу пластинок. Как бы то ни было, чувство ужаса, одиночества, заброшенности, которое я пережил, запомнилось на всю жизнь, во сне ли то приключилось или наяву. Отчётливо встаёт передо мною двор какой-то екатеринодарской квартиры, где мы сидим рядом с Тоней[2] и с гордостью показываем друг другу шоколадки в цветной обложке. Однажды нас повели слушать фонограф, который демонстрировался где-то на Красной улице. Чтобы услышать чудесную машину, надо было вставить в уши длинные резиновые трубки с белыми костяными наконечниками. Я сделал это, услышал негромкий, странный голос и кинулся бежать, поражённый ужасом. Рязань и все отрывочные воспоминания о ней праздничнее екатеринодарских. Это, видимо, потому, что с матерью я был в те времена связан куда теснее, чем с отцом, и поэтому ее круг, ее семья казались мне ближе. Кроме того, в Рязань мы ездили летом, на дачу, что было празднично само по себе. Маму звали тут не Маня (как папа называл ее дома), а Маша. Дяди и тётки были ласковы и с ней, и со мной. Вспыльчивый, мало мне понятный отец, помнится, не приезжал сюда. Рязань я помню, вероятно, еще раньше, чем Екатеринодар. Во всяком случае, ясно представляется мне следующее происшествие: я лежу на садовом диване и решительно отказываюсь встать, несмотря на то что кто-то из моих дядей стоит надо мной и зовёт куда-то. Я пригрелся. А если встану, мокрые штанишки дадут себя знать. Вероятно, мне еще нет и двух лет. Ясно помню фамилию — барон Дризен. Он устроил в Рязани любительский кружок, в котором (как я узнаю впоследствии) со славой играют почти все Шелковы. Особенно мама и дядя Федя. Позже фамилия барона Дризена начинает принимать переносный смысл. Я вижу, что тетя Саша прячет на шкаф от своих детей виноград. «Почему?» — спрашивает мама. «К Ване (мой двоюродный брат) пришёл барон Дризен», — отвечает тетя Саша. Дед мой был цирюльник в старинном смысле этого слова. Он отворял кровь, ставил пиявки (помню их на окне в цирюльне), дёргал зубы и, наконец, стриг и брил. И всегда, когда я заходил в цирюльню, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щётки, похожие на муфту с двумя ручками, и дед, и мастера весело приветствовали меня. Как я- узнал впоследствии, по семейным преданиям, дед был незаконным сыном помещика Телепнева. Во всяком случае, дочери этого последнего всю жизнь навещали деда, нежно любили его, и, когда их экипаж останавливался у цирюльни, бабушка говорила деду, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». Благодаря сложности положения незаконнорождённого у деда была какая-то путаница с фамилиями. Он был не только Шелков, но и Ларин. Мне объясняла мама почему, но я забыл. Отец мой, который считал, что русский писатель должен носить русскую фамилию, хотел, чтобы я подписывался — Ларин, но я все как-то не смел решиться на это. Несмотря на свою скромную профессию, дед всем детям дал образование. А у него было много детей: Гавриил, Федор, Николай, Александра, Мария и Зинаида. Имя еще одной сестры забыл. Кажется, Вера или Катя. Она жила не в Рязани — с мужем, и я мало знал ее. Зина в те времена была гимназисткой и вечно дразнила меня. У Саши было двое детей: Ваня и Лида. Ваня мой сверстник, Лида моложе, но их я очень мало помню в те годы. Зато их отец — черный, сухой, суровый — Иван Иванович Проходцов стоит передо мною как живой на дорожке рязанского сада. Из дядей я больше всего любил дядю Колю — худого, длинного, длиннолицего, который все показывал мне разные чудеса: то бузинные шарики прыгали у него в коробочке со стеклянной крышкой, то он звал меня в коридор дачи, и там разыгрывалось целое представление: зима. Кто-то появлялся из — под лестницы, ведущей на второй этаж, съезжал на санях с горки, валил снег, все хлопали в ладоши, и я был счастлив. В один из приездов мы застали дядю Колю больным. Он лежал в кровати и был так страшен, что я не осмеливался подойти к нему, хотя он ласково улыбался и манил меня к себе. Возле Рюминой рощи стоял большой деревянный дом Рюминых, двухэтажный, огромный, как мне тогда казалось. Внизу в широких рамах либо не было стекла, либо открывалась форточка. И вот дядя Коля подсадил меня в эту форточку, и я попал в большой зал. Наверх вела лестница с белыми перилами, у стены стоял клавесин, как мне кажется теперь. Вероятно, это было первое в моей жизни поэтическое впечатление. Кресла, столы, клавесин, лестница — и никого туг нет, ни одного человека. К ужасу дяди Коли, я побежал наверх по лестнице/Он звал меня, а я не шёл к окну, все бегал да бегал… Я тогда говорил не теми же словами, что теперь. Передавая теперешним моим языком тогдашние богатейшие мои ощущения, я, конечно, вру, но поневоле. Привычные мои детские воспоминания как бы прикрыты отныне этими сегодняшними страницами. Но вместе с тем, оттого что сознательно я не лгу ни в одном слове, что-то встаёт передо мною живее, чем до сих пор. Немые дни как бы начинают говорить и дышать. Вот, например, я пишу: «Я не запомнил ни одну из нянек». Что-то смутно тревожит меня после этих слов. И вдруг выплывает имя Христина. Я вижу весёлое лицо. Веснушки. Да это и есть моя екатеринодарская няня. Я слышу, как мама говорит о ней: «Вот это хорошая няня». Я вспоминаю, как мы с няней стояли в толпе, смотрели на чьи-то пышные похороны. Опершись о колено отца, я сообщаю ему, что видел, как хоронили царя. «Цавя», — весело передразнивает отец и объясняет, что умер не царь, а городской голова. Я после этого, к великому утешению мамы, рисую голову на ножках и спрашиваю, таким ли был голова при жизни. Все это не вспоминал я много — много лет, в особенности же няню Христину.
29 июля
Еще и еще выступают люди. Знакомая, каждый раз появляющаяся, когда мы живём в Екатеринодаре: светлые волосы, пенсне, зовут ее Клара Марковна. Квартира с большим садом у людей по фамилии Дуля. Хозяева — военные. Тут я обрезал палец левой руки, средний, и сохранил шрам на всю жизнь. И порезался-то не сильно — на неудачном месте — на сгибе. Здесь же я под столом разговариваю с кошкой, и вдруг она протянула лапу и оцарапала меня. Это меня оскорбило. Ни с того ни с сего, без всякого повода, вызова протянула спокойно лапу — вот что обидно — да и оцарапала. Будто дело сделала. И вскоре после этого — еще большая обида: телёнок, который казался мне огромным, бычок с едва прорезавшимися тупыми, еле видными рожками погнался за мною по саду и догнал у самого перелаза во двор. И прижал своими тупыми рожками к плетню. Это само по себе было обидно, но еще обиднее показалось мне то, что, прогоняя телёнка, мама смеялась! Но вернусь в Рязань. Мирные разговоры на балконе и удивительно спокойный и ласковый дедушка, который, по маминым словам, ни разу в жизни не повысил голоса. Правда, он все грозил мне, что выпорет меня крапивой. И поэтому на карточке его, присланной нам после его смерти бабушкой, стоит надпись: «Милому внуку на память о дедушке крапивном». Но я отлично понимал, что угроза шуточная. Дедушка, видимо, был несколько расточителен, а при такой большой семье каждая копейка была на учёте, и учётом этим ведала бабушка. Однажды мы с ним ехали на извозчике, и дедушка попросил меня не говорить об этом бабушке. Я и не сказал. Но яйца, которые мы везли на дачу, разбились, и извозчик, знакомый деду, шутил добродушно: «Яичницу привезёте на дачу хозяйке». Вот это я и рассказал, когда все уселись пить чай. Помню, как захохотали дяди и тётки, а дед схватился за голову.
31 июля
Все не хочется отрываться от воспоминаний самых ранних лет. Отрывочные эти воспоминания радуют, а между тем самое раннее моё детство было полно физических мучений. То, что теперь называют диатезом, а тогда — экземой, мучило меня до двух лет. Боялись, что у меня не вырастут волосы. От диатеза, по тогдашним медицинским законам, закармливали меня яйцами всмятку, отпаивали коровьим молоком и мазали цинковой мазью. Любопытно, что яйца и молоко, как утверждают ныне, вызывают диатез, а не излечивают. Кроме того, меня постигло еще одно горе — гнойное воспаление лимфатической железы за ухом. Я кричал недели две — три, пока профессор — педиатр не поставил диагноз. Меня оперировали без наркоза. Но я не помню операции, болей, крика, которым не давал спать всему дому полмесяца. О диатезе же запомнил одно — нежные мамины пальцы накладывают прохладную цинковую мазь на голову и за уши. Мне кажется, что я был счастлив в те дни, о которых вспоминаю теперь. Во всяком случае, каждая минута, которая оживает ныне передо мной, окрашена так мощно, что я наслаждаюсь и ужасаюсь поначалу, что передать прелесть и очарование тогдашней краски — невозможно. Вот я стою в кондитерской, вечером, в тот отрезок жизни, когда мы жили в комнате, где я познакомился с голодающими индусами. Не знаю, что мне нравится в этом воспоминании. Но до сих пор, зайдя в кондитерскую вечером, я иногда вдруг погружаюсь на одно мгновение в то первобытное, первоначальное, радостное ощущение кондитерской, которое пережило по крайней мере пятьдесят лет — и каких еще лет.
2 августа
Из отрывочных воспоминаний — забыл записать посещение театра. Давали, как я узнал уже много позже, «Гамлета». (Это было в Екатеринодаре.) Помню сцену, по которой ходили два человека в длинной одежде. Один из них — в короне. «О духи, духи!» — кричал один из них. Это я изображал дома. Незадолго до этого я научился здороваться и прощаться. И после спектакля я вежливо попрощался со всеми: со стульями, со стенами, с публикой. Потом подошёл к афише, имени которой не знал, и сказал: «Прощай, писаная». Все засмеялись, что очень мне понравилось. Помню репетицию любительского спектакля (это уже в Рязани). Маленькая сцена, на ней много народа. Все больше женщины, я теряюсь среди длинных юбок. Помню спектакль «Волшебная флейта»[3]. Мама села где-то позади, а меня усадили в первом ряду. Когда героя стали вязать, я заорал: «Мама!» и побежал по проходу, чтобы найти ее. Помню, как раздвинулся куст, впрочем, больше похожий на шкаф, и в нем обнаружилась флейта. Больше ничего не помню. На даче в Рязани я помню старую прислугу Марьюшку, у которой был сын Васька, мой ровесник. Все его бранили: непослушный, дерзкий, неумный. Однажды я забежал на кухню. Васька, только что вымытый, с чистыми волосами, сидел на подстилке где-то высоко. Почему-то мне кажется, что на столе. «Будешь кушать кашу, Васютка?» — спросила Марьюшка ласково. И Васька отвечал: «А как же!» Меня потрясло, как это Марьюшка разговаривает нежным голосом с общепризнанным преступником! Вечер. Мы пьём чай не на террасе, а в саду у кустов. И вдруг замечаем, Васька крадётся по поляне, хочет без спроса уйти куда-то. Бабушка окликает непослушного, и он исчезает в ужасе.
3 августа.
Отрывочные воспоминания собраны как будто полностью. Папа после ареста не мог жить и служить в губернских городах — и вот мы переехали в Ахтыри на Азовском море. Здесь отец поступил врачом в городскую больницу. С этого времени я помню все подряд, отрывочные воспоминания кончаются. Это, вероятно, 99–900 годы. Мне четыре года. Вначале мы живём у священника. Имени его не помню, но помню твёрдо, что старшие относятся к нему хорошо. Для меня это непреложный закон. Если хорошо-то и для меня он хорош. Второй друг — приятель старших — учитель Гурий Федорович. Этого я просто обожаю и радуюсь, когда он приходит к нам. Затем бывает у нас ветеринар с двумя дочками моих лет и с грудным ребёнком. Он вспоминается мне в мундире — легенький, маленький, а жена крупная и полная. Затем есть тут Ромащук. Он, кажется, полицеймейстер. Его считают хорошим человеком, а в Майкопе, куда его переводят в 907 году, негодяем. Очевидно, в обществе все тихо, мирно, если у молодого врача встречаются в гостях священник, полицеймейстер, учитель. Кто еще бывает у нас? Человек очень хорошо одетый, с усами, плотный. Все зовут его Дрейфус, потому что он представитель экспортной компании «Дрейфус», вывозящей хлеб. Когда начинаются разговоры о деле Дрейфуса[4], то мне кажется, что речь идёт о нашем знакомом. Я обожаю его пса, сеттера, который отлично выдрессирован: умеет снимать с хозяина шляпу, умирать, подавать калоши и нажимать кнопку звонка. Так пёс и делает; когда самостоятельно, без хозяина, приходит ко мне в гости. Мы сразу узнаем, что пришла собака, по ее в высшей степени продолжительному звонку. Во дворе у священника живут ручные журавли. Один из них отличает своих от чужих. Помню, как погнался за нами этот журавль, когда мы с мамой шли через двор. Мы вбежали в коридор и долго смеялись. Вообще мама в это время нашей жизни весела. Она шутит, смеётся и даже шалит не только со мной, но и с подругами. Я вижу, как она умеет их рассмешить, — я радуюсь.
4 августа.
В этот период жизни мама была весела и ласкова. Когда я иной раз, чтобы утешиться, мечтаю о том свете, то представляю маму именно того времени — весёлую, молодую, она встречает меня в раю, чуть наклонившись, глядя вниз, как глядела на меня маленького. Я считал маму красавицей и удивлялся, что она смеётся, когда я говорю ей это. Мы были необыкновенно дружны в те дни. Иной раз она называла меня Женюрочкой, что я очень любил. Я считал, что на одной фотографии я изображён именно в качестве Женюрочки. К сожалению, эта фотография пропала, и мне трудно теперь понять, почему я так думал. Когда мама была недовольна мною, то заявляла, что ее сейчас унесёт ангел — и исчезала. Я метался в страхе по комнатам — в каком-то страхе! Я до сих пор не люблю, когда кто-нибудь из близких, шутя, прячется от меня или теряется в магазине или в толпе. На мгновение меня ударяет тот, прежний, ужас, как будто маму опять уносит ангел. Обыкновенно мама обнаруживалась, когда я начинал громко плакать. Иной раз я сам находил ее в шкафу, или за дверью, и выяснялось, что ангел уронил ее именно сюда. Я часто болел-то ложным крупом, то ангиной, то бронхитом. Папа никогда не лечил своих. Ко мне приходил маленький, круглый и добрый доктор Шапиро. Он предписал обливать мне на ночь ноги холодной водой и ходить круглый год в носках. Помню, как мама обливает мне ноги водой из графина, и я хохочу и кричу — мне и холодно, и весело. У Шапиро тоже есть дети, но я с ними не знаком. Один раз мы встречаем его на улице с сыном — маленьким, чёрненьким мальчиком, у которого заплаканное лицо. Шапиро отвечает на вопрос мамы: «Никак не может успокоиться, видел, как курицу зарезали». Взрослые улыбаются грустно, а я смотрю на мальчика, сочувствуя. Я сам был потрясён недавно подобным зрелищем.
5 августа.
Однажды я проснулся ночью и увидел, что мама молится, стоя на коленях и кланяясь в землю. У нас была единственная малая икона, которой благословляли маму перед свадьбой, — Богоматерь с младенцем, в серебряной ризе. Эта икона почему-то не висела в углу, а стояла в книжном шкафу, в том месте, где не хватало стекла. И вот перед этой иконой и молилась мама. Когда много лет спустя я вспоминал за столом вслух при отце раннее детство (я тогда был примерно в пятом классе реального училища) и рассказал, как молилась мама, она повернулась ко мне и показала украдкой язык, то есть назвала меня без слов болтуном. Отец спросил мать с удивлением: «Это действительно было?» И она ответила, не глядя на отца:» Да ерунда, путает он что-то». О чем она молилась? Судя по тому, что икона стояла в книжном шкафу, мы еще жили у священника, где было тесно и где мы, очевидно, остановились на время. Но вот мы переехали в большую квартиру, помнится, в полуторном этаже, с длинным застеклённым коридором, с просторными комнатами, с квадратным двором со службами и с дворником у ворот. Икону повесили в столовой в углу. Когда маму уносил ангел, то разыскивать ее стало потрудней. Здесь я отчётливее помню отца, чем до сих пор. Вот он идёт из больницы, размахивая палкой с круглым костяным набалдашником, высокий, чернобородый, в шляпе и пальто. Вот он лежит после обеда на кушетке, укрытый белым одеялом, и весело болтает с нами. Он натягивает одеяло, складывает руки на груди и говорит: «Вот так я буду лежать в гробу». Это приводит маму в ужас. Одна из нянек рассказывает сказку об Ивасеньке, которому мать поёт: «Ивасенька, сыночек мой, приплынь, приплынь до бережу». Слово «приплынь» глубоко трогает меня. Мне кажется, что мать так и должна звать сына.
8 августа.
Более пятидесяти лет назад в Ахтырях, в новой большой квартире вдруг заболел папа. Он стал носить руку на перевязи, не спал ночей — у него появился нарыв на указатель — ном пальце правой руки. Пришлось ехать в Екатеринодар, где ему удалили фалангу пальца. Я боялся его руки, его пальца. Он привёз мне заводного велосипедиста на трёхколёсном велосипеде. Я играл в столовой, а в кабинете папе делали перевязку. К моему ужасу, велосипедист так и норовил заехать в кабинет; а я уговаривал его не делать этого. А в кабинете старшие со смехом говорили о том, что я боюсь отцовской перевязанной белой руки. И потом, шутя за чаем, папа мне показывал перевязанную руку, а я в ужасе прятался. Я вообще боялся отца, не понимал его и, очевидно, поэтому слушался беспрекословно, хотя в этот период жизни не могу припомнить отчаянных вспышек его гнева, столь страшных для меня впоследствии. Не помню его игры на скрипке, хотя отлично помню черный деревянный футляр, который я открывал потихоньку в отсутствие отца, смычок на внутренней стороне крышки и самую скрипку, струны которой я трогал тихонько и с восторгом. Помню и запах канифоли, казавшийся мне приятным. Почему уехали мы из большой квартиры? Поссорились с хозяином. Однажды мы были в гостях у вышеупомянутого Ромащука. И вдруг с плачем прибежали туда две наших прислуги — няня и кухарка. В наше отсутствие они веселились: бегали по коридору, смеялись, пели, и вдруг в квартиру нашу ворвался домовладелец. Его разбудил шум, который подняли девушки (он спал после обеда). Старик не только накричал на несчастных, он их побил по губам, побил не шутя: помню распухшие губы и заплаканные глаза няни. Ромащук, топорща длинные усы, закричал, что надо составить протокол. Мы стали искать новую квартиру. Узнав об этом, домовладелец явился к отцу и потребовал деньги за тот месяц, который давно уже был оплачен. В зале, где я играл в углу в кубики, разразилась страшная буря. Отец схватил стул, хотел ударить старика. Потом крикнул: «Только ваши седины спасают вас!» Зная отца, не сомневаюсь, что так оно и было. В дальнейшем, где бы мы ни жили, внося плату за квартиру, отец требовал расписки и вспоминал вышеописанный случай. И вот мы переехали на третью квартиру, и тут впервые в моих воспоминаниях появляется море. Странно, что, живя в приморском городе, я до сих пор не видел его. Помню улицы, магазины, помню даже, как два мальчика на сложенных штабелем дровах играли в море и пароход Мать сказала: «Смотри, как хорошо они играют; пойди к ним». Мальчики стали звать меня, но я не пошел в припадке упрямства. Их пароход из дров (а может быть, это были сложенные в правильный куб серые камни?) я помню, а настоящие пароходы в начале нашего пребывания в Ахшрях — нет.
9 августа.
И вот мы переехали на третью в Ахтырках квартиру. Стаяла она на высоком обрывистом берегу. Две большие лодки лежали против наших ворот; и мы с мамой, выйдя гулять, часто сидели возле них на камнях Когда вспоминаю, то чувствую, что вблизи, внизу, лежало море, но каким оно казалось мне — неясно. Хозяин новой квартиры умер недавно от сибирской язвы, я помню ужас, который вызывала у меня бывшая его комната. Масляная краска на полу пожелтела местами, мне чудилось, что длинные эти жёлтые полосы таинственно связаны со смертью хозяина и сибирской язвой. Однажды поднялся очень сильный ветер, он дёргал ставни, громыхал крышей, и старшие говорили, что на море страшная буря. Вскоре после этого, гуляя с няней, я увидел, что на дрогах везут человека. Он был с головой укрыт брезентом, а ноги его в больших сапогах безжизненно тряслись и подпрыгивали на ухабах Няня сказала мне, что это мёртвый рыбак Он продал на базаре рыбу, купил гусей и уток и вёз их на лодке к себе в рыбацкий посёлок Но буря унесла лодку в море, отняла весла, бросила рыбака на корму, разбила ему насмерть голову. Когда его нашли, лодка была полна водой, хозяин лежал на дне мёртвый, апгаца, хоть и со связанными ногами, плавала тут же живая. Историю эту я выслушал, как сказку, и, помнится, не испугался и не поверил, что рыбак мёртв. Как-то в ясный, тёплый день мы поехали на рыбные промыслы. Ехали в большой удобной коляске, на хороших лошадях — владелец позвал нас в гости. У самых промыслов лошади пошли по воде. Мы увидели сети, из которых рыбаки бросали куда-то крупную красноватую рыбу, похожую на большую тарань. Когда я много позже заговорил со старшими об этой поездке, они спросили: а ты помнишь, как нас угощали свежей икрой? Но это я как раз и забыл.
10 августа.
На камнях, что против ворот, возле больших лодок, впервые Я обидел маму, довёл ее до слез. Вышло это нечаянно, чему мама не хотела верить тогда, да так и не поверила за всю свою жизнь. Дело было так: я о чем-то просил маму, кажется, спуститься вниз, к морю, но она отказала. Я держал в правой руке длинный колос, не то ржи, не то ячменя, не помню. Поняв, что мама не послушается меня, я с досадой махнул рукой, и колос больно ударил маму по щеке. Под самым глазом вспыхнуло красное пятно. Мама ахнула и заплакала. Я немедленно тоже. Я начинал плакать сразу вслед за мамой, даже когда не понимал причину ее слез, а теперь повод для плача был настоящий. Я изо всех сил уверял маму, что ударил ее нечаянно, но она ни за что не хотела верить этой несомненной правде. Ее поразило, что я, которому она отдала всю свою жизнь, вдруг так ужасно обидел ее. Она рассказала няне, как я со злобой ударил ее, и колос «охлестнул» ее по щеке. Это слово я отлично запомнил. Повторяя жалобы свои, мама каждый раз повторяла — «охлестнул». Такая печальная история. Тут я в первый раз в жизни был несправедливо обвинён и кем? — лучшим другом моим и защитником. Уже пожилым человеком я пробовал доказать маме, что «охлестнул» ее нечаянно, но она недоверчиво улыбалась.