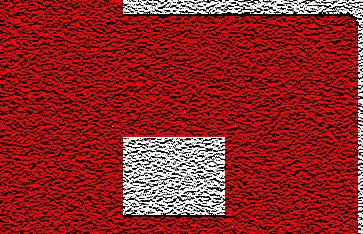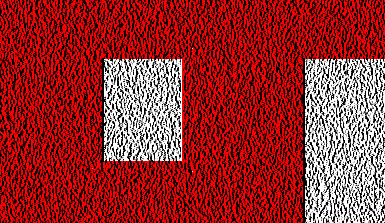Эстетическая рефлексия Ю.П. Анненкова
(на материале романа «Повесть о пустяках»)
Роман Юрия Павловича Анненкова «Повесть о пустяках» вышла в 1934 г. в Берлине и сразу же привлекла внимание читателей, в основном, русских эмигрантов, покинувших Россию после кровавых событий первой четверти XX в. Пространственным центром указанного произведения является голодный, «больной» Петербург, а главным героем – художник Коленька Хохлов, многими чертами напоминающий самого автора – Анненкова.
В книге «О психологической прозе» Л.Я. Гинзбург отмечала: «Если сила документальных жанров в непредрешённости, в том, чего “не придумаешь”, то литература вымысла, напротив того, сильна безграничными возможностями организации, потенциальным совершенством свободно рождающегося плана». «Повесть о пустяках» в жанровом отношении представляет собой синтез художественных и документальных элементов с сильным, как уже отмечалось, автобиографическим началом. Вследствие этого «сила» аннековского романа состоит в том, что в нем сочетаются узнаваемые, исторически достоверные события с причудливыми поворотами сюжета, порождёнными авторской фантазией.
Художник – искусство – действительность – та цепь отношений, которая является центром теории культуры. Художник является субъектом и творцом культуры, которая в своих бесконечных формах выражает действительность. При этом творческая личность (как существо био-социокультурное) постоянно осмысливает своё диалектически сложное единство с миром и культурой, что и составляет смысл эстетической рефлексии. «Повесть о пустяках» Анненкова как произведение, синтезирующее «образ» и «факт», представляет собой феномен, где присутствует и эстетическая и социорефлексия, что повышает ценность этого выдающегося произведения замечательного русского литератора и художника.
«Повесть о пустяках» раскрывает трагедию художников, переживших революцию 1917 г. (принимая или не принимая ее). За вымышленными именами героев скрываются Николай Гумилёв, Натан Альтман, повествователь рассказывает о деятельности Горького и Блока, вспоминает даже о поэте Шенье и художнике Курбе, которых коснулись революционные события далёких эпох. Однако через весь роман проходит образ Пушкина, чьё имя упоминается так часто, что можно говорить о «пушкинском тексте» «Повести о пустяках».
Образ великого поэта является значимым для анненковской эстетической рефлексии, так как именно с его помощью (иногда в иронической форме) оцениваются современные автору романа события.
Рассказывая о том, как знаменитые писатели, «любимцы публики» (Анненков называет их «пеной русской культуры»), взбудораженные революцией, забастовками, войной, бродили с эстрады на эстраду, из трактира в трактир («от “Давыдки” на Владимирском в “Вену” на Морской»), повествователь не без иронии замечает, что они «произносили пьяные тосты за русскую музу, за Пушкина и за Дмитрия Цензора, травили кошек в отдельных кабинетах и не платили по счетам». Вызывает усмешку уже то, что Пушкин упоминается рядом с Дмитрием Цензором (1877– 1947), ныне забытым, но в 1910-е гг. весьма популярным поэтом, которого критиковали серьёзные литераторы за дурновкусие. Что касается травли кошек, то в комментариях А.А. Данилевского (к указанному изданию) описывается скандал, разразившийся в 1907 г. в Петербурге. Дело в том, что несколько писателей травили украденных кошек охотничьими собаками, что широко обсуждалось в газетах. Упоминая имя Пушкина, за которого произносили тосты приятели истязателей кошек, Анненков даёт реальную характеристику «пьяному десятилетию», показывает истинное лицо ныне несколько приукрашенного (и поэтому искажённого) «серебряного века». «Затхлые меблирашки» Петербурга, автографы, вырезанные поэтами на столах и стульях, рисунки, «выполненные» художниками рыбными костями и жареной картошкой на стенах кабачков, становятся бесценным свидетельством, правдивым рассказом о больном времени еще и потому, что выполнены они «на фоне Пушкина» (если вспомнить известные строки Б. Окуджавы).
Продолжая рисовать картину «пьяной» эпохи, Анненков упоминает вымышленные и реальные имена, также связанные с Пушкиным. В действительно существовавшей пивной «Черепок» (Литейный проспект, дом №12) некто Савва Керн (автор здесь же, в скобках, цитирует «Я помню чудное мгновенье») читает блоковскую «Незнакомку», а на улице две проститутки, Ванда и Мурка, также называют себя Незнакомками.
Пушкин и Блок, с одной стороны, сниженные образы пьяного Керна и двух порочных Незнакомок, с другой стороны, дают возможность сравнить разные эпохи, ощутить «весёлую» катастрофичность атмосферы предреволюционного Петербурга.
Совершенно, казалось бы, неожиданно цитируется газетный некролог, в котором сообщается «о смерти генерала от кавалерии Александра Пушкина, последовавшей в имении Останкино Каширского уезда» (с. 64).
В 1914 г. действительно скончался старший сын великого поэта, генерал Александр Александрович Пушкин, о чём сообщали газеты того времени. Смерть сына Пушкина, совпавшая с началом Первой мировой войны и всеобщей мобилизацией, также усиливает ощущение тревоги, которая является доминирующей эмоцией, возбуждаемой в читателе анненковским романом.
В «Повести о пустяках» упоминаются дачи на берегу Финского залива, где собирались поэты и писатели. Речь идёт о дачах Анненкова и Чуковского, где бывали Маяковский, Горький, Шаляпин, Есенин и многие другие. В литературном «салоне» писателя Апушина (прототипом послужил К.И. Чуковский) беседуют о культуре, о войне, читают стихи, после чего следует реплика:
«Браво! Взгляните на позу: Пушкин у Пущина, Мицкевич в салоне какой-то графини». Рядом – другая реплика, красноречиво свидетельствующая о надвигающемся голоде, нехватках, масштабы которых даже представить себе не могут легкомысленные завсегдатаи дачного «салона»: «Сегодня хлеб вздорожал на одну копейку, а пирожных в кондитерских совсем не пекли» (с. 68).
Пушкин, декабрист Пущин, опальный Мицкевич, смешиваясь с «дезертирами», «усами Гогенцоллерна», «печеньем Эйнем» и «голубоватым рафинадом заводов Кенига», вызывают у читателя горькую усмешку, страх за русскую культуру, сочувствие к шутникам, которые вскоре будут либо расстреляны, либо уедут из страны.
Наряду с реально существовавшими режиссёрами, писателями, художниками Анненков упоминает иных «творцов», которые создавали «сценарии» и играли свои роли на сцене истории. Писатель использует объёмную и точную метафору – «режиссёры войны» (имеется в виду Первая мировая война), говоря о политиках, разжигавших страсти, отправлявших по всей России поезда со стонущими ранеными, что должно было обеспечить «необходимый подъем чувств» (с. 77).
Анненков не оставляет без внимания и В.И. Ленина (с которым был хорошо знаком отец писателя), одного из главных «режиссёров» русской революции и истории. Одна из главных героинь, Мотя Шевырева, со словами «Замётано! …Ленин, эстет и художник, прислал в ЦК партии большевиков письмо об искусстве», принесла статью «вождя», где последний настоятельно советует относиться к восстанию «как к искусству». Общеизвестная «крылатая» фраза в романе выделена курсивом и повторяется на 3-х страницах 10 раз.
Если признать, что Ленин, Троцкий и Дзержинский, упоминаемые в произведении, были творцами, то творцами можно назвать и матросов, разгромивших дачу главного героя, заполнивших ее своими испражнениями и оставивших свои автографы на стенах жилища, где еще недавно бывали лучшие представители русской культуры.
Однако главный герой романа, художник Коленька Хохлов, был так восхищён «музыкой революции» и «гекзаметром декретов», что искренне, как и многие другие его собратья по цеху, полюбил эту революцию и поверил в неё. Поэтому нет ничего удивительного в том, что анненковская эстетическая рефлексия (и антропология) в основном рассматривает важнейшую для художников тех лет проблему: участие творческой интеллигенции в современных событиях и истории вообще.
Указанная проблема в романе рассматривается многоаспектно. В самом начале Первой мировой войны отец Коленьки Хохлова, старый революционер – народоволец, упрекал сына, уклоняющегося от службы в армии: «Ты же художник, ты же видишь, как немцы разрушают Лувенскую библиотеку, как они разрушают Реймский собор, как шаг за шагом они уничтожают памятники искусства и культуры. Ты, художник, видишь все это и остаёшься хладнокровным?» (с. 86). Со временем отец, видя бессмысленные жертвы, жестокость погромов, разруху, горько разочаровался в революции, идеалах своей юности и заявил, что российская интеллигенция, «носительница нашей культуры, источник гуманитарных идей», жила «в сфере отвлечённых идей» и поэтому «оказалась за бортом» (с. 130).
Эти слова, с глубокой болью и горечью произнесённые человеком, всю жизнь служившим народу, но признавшим в конечном итоге своё поражение, видимо, полемичны по отношению к известной статье А. Блока, в которой поэт призывает интеллигенцию содействовать революции, «слушать ее».
Вихрь революции закружил и обманул многих выдающихся людей того времени, и Анненков сообщает о том, что «Гумилёв обучает милиционеров географии. Ветхий Кони читает лекции о психологии преступности в исправдоме для проституток. Ахматова влачит пайковый мешок; выдачи скудеют с каждым днём, но мешок становится все более непосильным. Аким Волынский произносит талмудические речи на собраниях
«Всемирной Литературы», на Моховой… Комиссия Горького высчитывает количество калорий, необходимых для правильного питания учёных, писателей, художников…» (с. 141).
В скандально-покаянной речи отца Коленьки Хохлова, Ивана Павловича, прозвучала значимая фраза: «Политическую действительность мы всегда склонны были театрализировать» (с. 131). Автор романа продолжает развивать эту мысль и показывает, как современная ему творческая интеллигенция создаёт «вторую» действительность:
«Раскрашенные грузовики останавливались на перекрёстках: актёры на грузовиках разыгрывали агитки, колотили толстопузых капиталистов, которым под накладными ватниками было теплее других, стегали попов и белых генералов и декламировали революционные монологи в пароходные рупоры» (с. 151).
Известно, что Анненков с группой художников и актёров подготовил грандиозное театрализованное «Взятие Зимнего дворца», приуроченное к третьей годовщине октябрьской революции. Более тысячи актёров бегали, кричали, потрясали оружием в Тронном и Гербовом залах дворца.
Этот реальный факт нашёл отражение в «Повести о пустяках», и Анненков очень искусно вписал акт сотворения «второй» действительности в мировую культуру и историю, в которых художники всех времён и народов играли какую-либо роль. Автор романа сообщает, что в 1561 г. скульптор Леон Леони написал Микель-Анджело о том, что он занят самым пышным празднеством, какое только осуществлялось за последние 100 лет. Леони с гордостью сообщал, что в Мантуе невозможно найти ни досок, ни гвоздей, ни крыш, так как все материалы пошли на грандиозные постройки декораций.
Анненков отмечает, что «голодная» русская революция, повторенная в грандиозной феерии «Взятие Зимнего дворца», «нанизывает новое звено на общую цепь того площадного искусства, где количество становится качеством, цепь, уходящую в далёкие века: уличные шествия “тела Христа”, кощунственные празднества “осла”, средневековые мистерии…, санкюлотские ритуалы Французской революции в честь Федерации» (с. 225).
М.М. Бахтин писал о том, что в России «процесс карнавального объединения народно-праздничных форм <…> не совершился: различные формы народно-праздничного веселья, как общего, так и местного характера (масленичного, святочного, пасхального, ярмарочного и т.п.) оставались необъединёнными и не выделили какой-либо преимущественной формы, аналогичной западноевропейскому карнавалу».
Анненков (вопреки Бахтину) в своём романе показал, что в России «процесс карнавального объединения народно-праздничных форм» в конце концов совершился, но не естественным путём, а… по воле большевиков! Тем не менее грандиозное зрелище так потрясло Хохлова (одного из творцов феерии), что в тот момент, когда пушки Петропавловки возвестили об окончании празднества, Коленька почувствовал, что «революция для него умерла», и заплакал. Анненков отметил, что Хохлов, как и все русские, «умел плакать над абстракциями» (с. 225). Для художника абстракция порой ближе и понятнее, нежели реальность, что является спасением и одновременно трагедией для творческой личности, не всегда способной перевести язык образов на язык понятий.
Однако революция с сопутствующими ей расстрелами, голодом, холодом, разрухой, чудовищными погромами властно вторгалась в жизнь художников, поэтов, музыкантов, актёров, доказывая, что «человеческая жизнь в большинстве случаев мало театральна <…>. В человеческой жизни, за редкими исключениями занавес падает без репетиций, как придётся» (с. 296). Как ни старались люди искусства «отгораживаться» от вселенной «не материальной плотностью стен, а нарисованными цветами» (с. 156), как ни хотелось им верить, что «нет больше страшной действительности, все – лишь диккенсовская рождественская повесть…» (с. 171), им приходилось менять «буржуйку за две простыни» (с. 157), месяцами не мыться, узнавать, что князь Петя (видимо, Гумилёв) забит насмерть прикладами (одна из версий гибели поэта), слышать о зарезанных евреях, убитых красных, белых и многое другое.
Как же соотносятся искусство и действительность, каковы основные постулаты анненковской эстетической рефлексии и эстетической антропологии?
Творческая личность и творимая ею «вторая» реальность, безусловно, часто далеки от «первой» реальности. Призывы к служению и само служение революции Анненков в конечном итоге называл заблуждением, недоразумением, погубившими многих и многих. Тем не менее искусство, по мнению автора «Повести о пустяках», – это «ядро», центр Петербурга, это необходимая «сердцевина», окружённая «кольцом митингующих фабричных окраин, замешанная безликим сплавом горожан, маски которых стёрты страхом и лишениями». Бесцельно и вдохновенно блуждают (и живут) питерские историки и поэты, писатели, философы и художники, искусствоведы и критики, музейщики, книжники и театралы», иногда «сходясь вместе». Так же бесцельно, подчиняясь законам природы, соединяются в каплю ртути «шарики и крупинки» (с. 245). Люди искусства, даже осознавая бесцельность и незащищённость своего труда, словно горошинки ртути, все равно продолжают своё движение и ищут себе подобных невзирая ни на что.
Подводя итоги рассмотрения анненковской эстетической рефлексии и культурной антропологии, можно вспомнить платоновскую теорию отражения идей в материальном мире или шопенгауэровское учение о двоемирии, но наиболее близким Анненкову философом был, вероятно, Ф. Ницше, считавший, что «культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над раскалённым хаосом». Культура, с одной стороны, слаба и беззащитна перед жестокостью материального мира, с другой стороны, «раскалённый хаос» истории не в состоянии ее уничтожить, он даже в какой-то степени стимулирует ее развитие. Наконец, «яблочная кожура» – явление, насколько необходимое, настолько и прочное.
Д.А. Скобелев